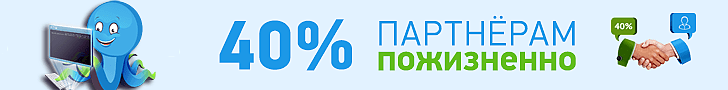Романтика лет студенческих, 1969 г.
Посвящается хрусткой картошке на заснеженных колхозных полях.
Второй курс, «летняя практика» — недавно нашёл у себя конверт старых ч/б фото с этих «практик», может быть организую на своей страничке «студенческий колхозный альбом».
В том году повезло с погодой: сухой, жаркий август. Повезло и с деревней: председатель выделил для помыва студентов личную баню. В ту субботу дежурить по бане выпало мне. Вода — вёдрами из колодца, сухое бревно, заранее разваленное бензопилой, — разлетается под колуном на поленья. Вообще-то, устал. Уже темнеет, а желающих помыться — не убывает, вот и сейчас подвалили два десятка девчонок из НИСА (Новосибирский институт строительства и архитектуры), первый курс, должно быть, может даже — только что зачисленная абитура — совсем пигалицы, детсадовские формы, в халатиках, полотенца в пакетиках, толпятся у бани, пока я, под руководством самого председателя, выгребаю золу, набиваю топку поверх пылающих углей наколотыми поленьями и слушаю пьяный председательский трёп.
О его геройских подвигах: воевал председатель в СМЕРШЕ (врёт, наверное), потом — в «Органах» куролесил по чёрному (трепло!), травму получил — вывернутая назад кисть руки — брошен Партией на председательскую работу. Девушки шепчутся в дверях предбанника. С губ председателя чуть слюна не течёт: эх, раньше бы мне этих!
— Да ну, много их.
— А по пять минут на каждую — всех бы порвал!
— Да маленькие они все какие-то, дети..
— Эти — маленькие? Да это — кобылы! Не видал ты маленьких! Вот, когда родственников осуждённых сгребали, подъедем ночью, динь-динь, телеграмма…- и в хату, а они там с постелей, тёпленькие, всех баб тут же приходовали, ни одной не брезговали! Бывало её двумя руками, как гандон на х..й натягиваешь. Ничего, ни одна не сдохла, всех по этапу отправляли. А чего! Иная выступать начинает, б..дь, пожалуюсь, напишу, а как оприходуешь — сразу тиихохонькая, сама идёт, сама в автозак залазит. Так вот. Учись студент. С людями надо уметь работать.
Вывернутая рука председателя трясётся, подпрыгивает..
Много лет позже прочитал рассказ А. И. Солженицина » Кисть руки» — был потрясён сходством!
— Ты, это, особо не балуй, пока все моются, не лезь. Нажалуются, суки. Потом, как одна какая останется, как договоришься, но чтоб без свидетелей!
Председателева рука опять запрыгала.
Порядок такой. Дежурный по бане моется последним. Оставь дров себе, воды пару вёдер. Ну, бывай — х..й не сломай! Мокрая ладонь ткнулась мне в руку.
Девчонки моются долго, мелькают в предбаннике, льют воду, повизгивают. Я дремлю под эту «живую музыку» на штабели досок перед баней. Темнеет. Трещащая стайка «стрекоз», с головами обмотанными полотенцами, пролетает мимо меня, исчезает за калиткой. Всё. Моя очередь. Печь вновь набита дровами, бак залит водой, последний заход к колодцу — за холодной, для облива. На пороге — тёмная фигурка. Пацан? Нет. Девичий голосок
— Извините, я опоздала, да?
В приливе великодушия — ну куда же деваться!
— Нет, вот специально для Вас дров подбросил, воды набрал, прошу пани!
— Спасибо. А больше ни кто не придёт?
— Нет, Вы — последняя. Весь пар — Ваш!
Минутой позже:
— Я не могу, так светло! В окно всё видно?
— А вы своё платье на окно повесьте, свечи задуйте, — из печки света достаточно.
— Да. Спасибо. Вы не будете заглядывать? Честное слово?
— Не буду. Честное слово! Я перед баней, на досках.
Отправляюсь на свою лежанку. Через пять минут головёнка высовывается из двери бани:
— Вы не могли бы здесь посидеть, мне почему-то страшно?
Возвращаюсь в предбанник.
— Только не заглядывайте, пожалуйста…
— Не буду, я же обещал.
Со всей серьёзностью отношусь к ситуации. У меня три сестры. Две младшенькие, и уж я то хорошо знаю девчоночьи страхи темноты и пустой комнаты. Сижу в предбаннике, разговариваю через дверь. Девочка только что зачислена, будущий архитектор, у неё хороший твёрдый рисунок, благодаря рисунку и прошла конкурс, хотя к ней было особое отношение в комиссии, на собеседовании долго допрашивали. Рассказываю, что сам я чудом поступил. Спасла меня какая-то высокая, рыжая девушка, пока я сидел на письменной математике, над своими десятью задачами, из которых одна — планиметрия, которой в школе было чуть-чуть, а две задачи на дифференциальные уравнения, которых в школе вообще не давали, она выходила со своим листком и на полминуты задержалась около меня, карандашиком нанесла сечение в планиметрии, набросала решение в обеих дифурах, — мне оставалось только обвести своим почерком. Так и не узнал, кто была моя спасительница, не запомнил, в отчаянии
Смех за дверью:
— Представляю … , у нас одна девочка — она поступила — мокрая вышла и не заметила, что мокрая!
Смеёмся вместе.
— Мне повезло, у нас в Салаире хорошие учителя…
За дверью молчание:
— Где? В Салаире? На фабрике?
— Нет, в Хасане, 25-я школа.
— А я с фабрики, 26-я школа.
Я чуть не влетел к ней за дверь! На другом конце Союза — землячка!
— Хотела в Москву — мне в Москву нельзя, а ближайший архитектурный — в Новосибирске.
— А меня наш физик, Изяслав Михайлович в Академгородок свозил, я и заболел университетом.
— Знаю. Гинзбург!
— Почему знаешь, он же из 25-й школы?
— Потому что Гинзбург, Изяслав Михайлович.
— Не понимаю…
Смех за дверью. — Отвернись, мне надо выскочить, а одежда вся у тебя.
Отворачиваюсь. Лёгкая тень промелькнула за дверь, за баню…, через несколько минут — отвернись? Тень вернулась в парную.
— Там совсем темно и, кажется, туман .. Ты то же будешь мыться?
— Не знаю..
— Не надо, мне что-то страшно. Я сейчас только ополоснусь и постирушки отожму, ладно?
Молча выходим из бани. Ого! Обжигающий холодом молочный плотный туман. Ни зги. Шагаю. Проваливаюсь в какую то грязь. Запинаюсь обо что-то. Нащупываю руками штакетник забора. Калитку.
— Иди на мой голос.
Чувствую её руки. Опять грязь.
— Значит, давай так, я сажусь, ты залазишь мне на спину, и я тебя несу. Всё равно я не мылся и я в сапогах. Как-нибудь дойдём.
Горячий груз придавил спину, пытаюсь услышать сердечко. Держусь одной рукой забора, спускаюсь по улице к ручью. Куда идти дальше?
— Залезем на холм, он выше тумана, что-нибудь увидим.
Вброд через ручей, крутой склон, бурьян. Вынырнули из тумана. Небо в ярчайших звёздах. Сухая стерня, рядки высохшего сена. Вокруг холма непроницаемая мгла — ни огонька.
Соскользнула с моих плеч, села на какой-то широкий камень..
— Ой, как тепло!
Камень горячий, дневным солнцем отогревает от туманной сырости.
— Что тут было?
— Церковь, по-видимому, потом снесли, как везде, а это — фундамент остался ..
— Откуда знаешь?
— Я же архитектор. (Смех). Так, Полярная — там, значит вот восток, а там — Алтарь. Ложись головой к Алтарю.
— Зачем?
— Так надо. Наверное, будем здесь до утра.
Вспоминаю, что камни быстро остывают и забирают человеческое тепло. Встаю. Набираю сухого сена, укладываю сено толстым слоем поверх камня, обкладываю валиком вокруг. Снимаю с себя штормовку.
— Давай так, я ложусь на сено, ты ложишься поверх меня огребаешься сеном и укрываешься моей штормовкой.
— А не тяжело?
Уверенно вру: мы с сестрёнкой всегда так в бору ночевали, когда с ночевой за брусникой уходили.
Опять на мне горячая тяжесть. Пальчики убирают сухие травинки с моего лица, её щека ложиться на мою щеку.
Голова кружится от близости её дыхания, стараюсь сдержать своё, что бы вдыхать её выдохи, вдыхать выдыхаемый ею воздух. … Потом-потом прочитаю у Бунина «Лёгкое дыхание».
— Поцелуй меня? — мой собственный голос слышится как бы со стороны, робко-робко.
Губы касаются где-то около моего носа..
— Хватит, пожалуйста, мне нельзя целоваться, у меня слабое сердце, и, если заволнуюсь, — могу умереть…
Боюсь шевельнуться, что бы не спугнуть это чудо — звёзды, её дыхание, краем глаз вижу её губы.
Губы шевельнулись — слушай, я это ещё никому не читала. Звучит какой-то незнакомый, перекатывающийся язык, певучие фразы, — потом перевод на русский., ни на что не похожие стихи.
— Что это?
— Это песнь Любви. «Песня Песней».
— Красиво.
— Ещё бы! Знал бы ты сколько этой Песне лет.
— Дашь почитать?
— Смех — сам прочитаешь, только не выучишь…
Задетый за живое (я ведь поэт!) читаю что -то из своей «дворовой любовной лирики».
Пальчики прижимают мне губы на полуслове. Читает она, что -то невероятное, до крови пронзающее душу.
— Кто?
— Марина Цветаева. Это будет твоя первая любовь, Любовь на всю твою жизнь. — Почему? — Я знаю. Считай, что я твоя Касандра.
— Кто?
Смех. Господи, какой лёгкий, тихий не обидный у неё смех!
— Узнаешь, ты всё узнаешь, ты умница! Пальчики касаются моей щеки — и у тебя в глазах звёзды.
Пытаюсь её обнять, пальчики возвращают мою руку обратно.
— Постарайся сублимировать желание. Не понял? Ты очень хочешь, я знаю, но сейчас не время ни мне, ни тебе, а из наших желаний мы можем построить наш Храм. Вот сейчас ты лежишь на фундаменте Церкви. Ты и есть Церковь — Храм твоей Души. Строй мысленно его стены, возводи их к звёздному куполу, черпай из себя желание и возводи из него стены. Не спеши, камень за камнем, отёсывай лишнее, украшай изразцами, арку за аркой. Строй спокойно, надёжно. Это будет и мой Храм.
И я вдруг почувствовал физически, как белые ажурные стены взорванного собора вырастают вокруг меня…
И это оказалось настолько важно, сложно, что когда я проснулся — туман осел. Утреннее солнышко дробилось меж ресничек. Замер, боясь пошевельнуться. Её щека на моём лице. Чуть раскрытые губки у моих губ. Паутинка слюнки .. Как хотелось дотянуться, слизнуть эту паутинку.
Почувствовала моё пробуждение.
Засмеялась
— Зажмурься!
Слышу отряхивание соломинок. Шелест застёжек, — не поворачивайся!
Лёгкие шаги, бегом в сторону, возвращение, — теперь — ты.
Убегаю за склон. Долго-долго отливаю. Как же она терпела?
Вернулся, она уже собралась, любуюсь самым прекрасным на свете лицом, её глазами — моей маленькой смуглянкой! Смуглые пальчики подбирают из старого кострища уголёк. На камне, освобождённом от сена, пишется номер группы, улица, дом — это в Салаире.
Спускаемся бегом с холма — разбегаемся, каждому на свой утренний развод. После развода — хватаю из рюкзака записную книжку, мчусь на холм, переписываю всё с камня.
НИСИ — угнали на поля другого хозяйства, «на зерно», нас — гробиться «на картошке».
Наконец, возвращение с «практики», — в ту же ночь — на ж.-д. вокзал и домой, в Салаир. Как бесконечно тянулась ночь! Утро. Из автобуса — в автобус и на фабрику. Склон фабричной горы. Огороды, изгороди, крепкие бревенчатые дома. Поднимаюсь по улочке, ловлю взгляды. Стук в дверь. Удивлённое взрослое лицо. Из-под маминой руки выскальзывает моя Любовь, моя Жизнь, моя Мечта, Та, Без Которой, Я не Могу Больше Ни Секунды!
Моё маленькое, смуглое чудо, запахнутое в голубое платье — халатик (с маминого плеча?). Я молча взят за руку и влеком вниз, в конец огорода, за подсолнухи, от шести пар глаз, возникших в дверях и окне её дома.
Прижимаю к себе, путаюсь в упрямых кудряшках, тыкаюсь губами в ушко, в шейку, в губки…
— Почему???
— Не надо, пожалуйста!
Целую шейку, кручу пуговки платья..
— Как я хочу на Тебя посмотреть, ну, хотя бы, раз.
После лёгкого молчания, её пальчики расстёгивают пуговку, другую (моё сердце взрывается с каждым ударом, заполняя весь мир звоном в ушах). Полы платья (халата) распадаются. На невозможно прекрасном, смуглом до черноты теле — простой белый х/б лифчик…., такие же трусики. Пальчики, дрогнув, исчезают за спиной, лифчик падает вниз — две почти неотличимые в своей смуглости от тела — груди, как две половинки яблочка, чёрные горошинки сосочков. Тянусь к ним. Пальчик указует на ямку меж ними.
— Сюда..
Целую ямку, ещё, ещё, задыхаюсь её запахом.. .
Много лет позже, напишу, не думая о ней, а написав — вспомню и неведомый раскатистый, певучий язык, и тёмные, дымные кудряшки, и смуглую, до черноты кожу, и ямочку меж твёрдых крошечных грудей..
«Как пахла войлоком и мёдом
Странноприимная страна».
Напишу и услышу голос погонщиков скота, и шорох сворачиваемых войлочных шатров, увижу три сосуда воды при входе .. Но это — потом.
А тогда, я осторожно, бережно отстранён, халатик запахнут и застёгнут. Я взят за скулы и мне, тихо-тихо, близко-близко сказано:
— Не надо настаивать, пожалуйста, — у нас ничего не получится.
— Почему???
Раздельно, по слогам, очень тихо:
— Потому что я еврейка.
— Грузинка, еврейка, по мне, так ты больше грузинка, у нас 200 национальностей!
— Еврейка, это не национальность (её смех, смешинка)
— А что же? (моё отчаяние..)
— Диагноз и судьба. Поймёшь сам. Ты будешь много читать. Очень много. Вновь пальчики коснулись моих губ. Я скоро выйду замуж. Меня выдадут. Куда-нибудь, далеко-далеко от сюда, — узнаю перед самой свадьбой, это не важно. Я рожу двух, может трёх детей, в наших семьях рожают много детей, сколько смогут, но у меня больное сердце. И я очень быстро изменюсь, мы быстро меняемся.
— Я обещаю ждать тебя вот на этом месте, в это же время, через тридцать лет. Если ты не шарахнешься от меня, (пальчики зажали мой протест в моих губах), и если я увижу в твоих глазах те же звёзды, как там, в деревне, я сделаю тебя счастливым, на полчаса, или несчастным…- это одно и то же.
— » Радость и грусть — всё одно»
— Это Цветаева?
— Нет, это будет твоя вторая любовь, выверенная и рассудочная, — Гиппиус.
— Тебя увезут на твою историческую родину?
— Я не готова жить на нашей Исторической Родине. Надо много воли и силы, что бы жить среди зверей, засыпать с оружием в руках и просыпаться с оружием в руках.
— Но война скоро закончится, зверей разгонят.
— Та война не закончится никогда, и зверей никогда не разгонят. Потому что сердце Зверя — тут. (Топнула пяткой по огородной земле.)
Сердце зверя здесь, на этой земле, в этой стране.
Ты скоро поймёшь, что единственный достойный повод для
жизни здесь — сопротивление зверю. Поймёшь, ты способен понять, может быть — один из этого города.
( Я ничего не понял.)
Из дома раздался голос.
— Всё, мне пора. Через 30 лет, здесь, на этом месте, в это время. Узнаешь меня вот по этому голубому платью.
Годы. Прошли годы. В Салаире отработал, закрылся рудник. Встала обогатительная фабрика. Исчезли автобусные маршруты. Единственный автобус колесит по всему городу, проезжает и через фабрику. Год за годом, навещая не часто родителей, я наблюдаю из окна автобуса, как исчезают дома и огороды, как склон фабричной горы превращается в бурьянный пустырь.
После ранения, только-только заново научившись ходить, я еду с женой и сыном к родителям. Автобус, мотаясь на ухабах, завернул на фабрику. Сижу, прижимаюсь боком к окну, у прохода сидит, поддерживая меня, моя, измученная духотой и моими капризами, супруга, сзади страхует мою голову сын.
За окном, на склоне горы, среди квадратов сухого бурьяна — голубое платье…,
бросок к проходу…
— Котя — Котя, потерпи, ещё не много, сейчас доедем…
» Тебя я приветствую, моё поражение!
Тебя и победу я люблю ровно,
На дне моей гордости — бездна смирения,
Радость и боль — всё одно.
Тебя я приветствую, моё поражение!
Мне радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Всякую чашу — пьют до дна».