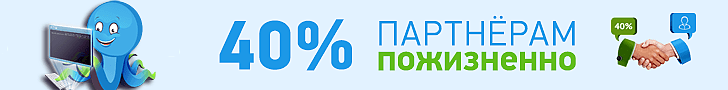В армию меня забирали из районного центра, куда проводить меня приехала только бабка Ксения — единственный родной человек в мои восемнадцать лет. От деревни призывался я один, да и сверстников у меня не было. Из пятидесяти двух человек населения — человек сорок пенсионеров, остальные молодые бабы, мальцы да девки.
В районе нас набралось человек двадцать, стриженых, одетых кто во что горазд. Некоторые прощались бурно, обнимая друзей, родных, целуя девчонок, всем клянясь писать каждый день. Матери тихонько утирали слезы. Прослезилась и бабка Ксения. Я спросил:
— Как же ты теперь будешь одна?
— Да как-нибудь. Она окрестила меня и прижалась головой.
На душе было муторно, одиноко и тоскливо. Немного скрашивал ситуацию сержант, приехавший нас забирать. Веселый, жизнерадостный, подтянутый, он что-то рассказывал родственникам, всех успокаивал, похлопывал по плечу новобранцев. Вид у него был наш, вологодский.
— Из какой деревни? — спросил он меня. Я ответил.
— Земеля! — он хлопнул по плечу и меня и стал сгонять всех в строй.
Доехали быстро и без приключений. Сержант все больше мне нравился — деловитый, добрый, заботливый. И я старался изо всех сил, выполняя его случайные поручения. В часть мы прибыли утром. Нас одели в военное обмундирование, выдали все необходимое, повели в баню. В общем жизнь потихоньку налаживалась.
Сержанта звали Сашей. Вообще-то он был «товарищ сержант», но когда мы были одни, разрешал называть себя Саша. Я когти рвал, получая от него приказания. Он это видел, все больше ко мне располагался, часто расспрашивал о деревенской жизни. Иногда он брал меня на прогулки вдвоем, на луг, и эти дни становились для меня праздником.
— А чего ты не контактируешь с другими? Я пожал плечами. Я привык быть один, ни к кому не лезть. Бывало с бабкой мы и двух слов за день не скажем.
— Надо дружить со всеми! Легче будет — он потрепал меня по загривку.
Прошло два месяца. Служба налаживалась, хотя ни с кем в роте я так и не сблизился. Саша стал для меня старшим братом, которого я беззаветно любил и уважал. Мы часто разговаривали, и видно было, что наше общение для него не в тягость.
В тот злополучный вечер мы как всегда пошли на луг. Он лег спиной на траву, я лег перпендикулярно к нему, положив затылок ему на живот. Он что-то рассказывал о своих похождениях и победах; я зажмурился и наслаждался солнцем, травой, покоем и его родным вологодским говором.
— А как с бабами у тебя? — он положил руку на мою стриженую голову.
Как у меня? Да, никак. Год назад на деревенской свадьбе меня, полупьяного, молодуха оттащила на сеновал, раздела и выпила досуха. С тех пор я баб опасался.
— А мужиков ты любишь? Я задумался. Отец ушел от нас, когда мне было два года. Я его и не помню. Всю жизнь мне его не хватало. Братьев, да и вообще родственников-мужиков у меня не было, как не было и сверстников. Конечно, я чувствовал, что обделен в жизни.
— Да, я не знаю.
Он начал гладить меня по голове. Я купался в его ласке и тихо лежал, глядя в небо. Он повернул мою голову к себе затылком, так что моя щека легла ему на живот. Пряжка врезалась мне в лицо, и я машинально сполз головой ниже. Он продолжал молча гладить мне затылок, и вдруг я почувствовал легкое давление его руки. Думая, что ему что-то мешает, я сполз еще ниже и щекой уперся в его напряженную плоть. Я хотел поднять голову, но его рука удерживала меня. Он все сильнее прижимал меня к себе. Я всем существом понял, что ему это приятно, и затих, боясь нарушить его настроение. Одна его рука продолжала гладить мой затылок, вторая поползла к ширинке, расстегнула ее. Он обнажил свою напряженную плоть и упер ее в мой рот. Я подался назад, но он силой удерживал мою голову, вдавливаясь в меня все сильнее.
— Ну, пожалуйста, разожми зубы! Ну, пожалуйста! Я тебя очень прошу! Пожалуйста!
И я уступил. Я знал, что происходит что-то совсем не то, незнакомое и недоброе, вся моя сущность восставала против, но он этого хотел, он просил меня, почти умолял, и я, боясь разрушить очень дорогое для меня его отношение ко мне, уступил. Он стал идолом для меня, и боялся его потерять.