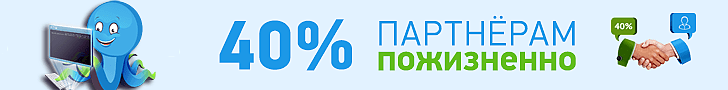Романтическая симфония для мужского полового органа и оркестра.
Не так давно кто-то – не помню кто – держался за мою руку, словно за ниточку воздушного шара, и говорил: «Ты думаешь, что жизнь – это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы? Нет, мой драгоценный, ты заблуждаешься. Жизнь – это всего лишь дерганье экрана телевизора, который смотришь не ты. Впрочем, это тоже не жизнь. Это лишь зачатие жизни. Когда кто-то хватает телеящик, озверев от его тупости, и швыряет его с балкона, только тогда и наступает настоящая жизнь: дерганья еще неостывшего экрана приобретают смысл, который никогда не появился бы, находись телевизор по-прежнему в интерьере комфорта и спокойствия. К сожалению, экран гаснет раньше, чем телевизор врубается в асфальт и окончательно разлетается на куски. Поэтому осознать что-либо мало кому удается. Очень немногим. Избранным. Ну, ты знаешь кому…».
Бред. Он снится мне под утро. Уже много дней подряд.
* * * 10.00. Господи, да когда же это кончится? Когда я, по примеру мудрых, смогу вздохнуть свободно, освободившись от ужасной кабалы самой забавной части моего тела, именуемой пенисом. Мечты об импотенции – их ужас так желанен! Импотенция – вот что приносит полную свободу мужскому естеству, крепко-накрепко скованного цепями похоти и сонма неуместных желаний, исходящих от этого неугомонного органа, с легкостью хамелеона меняющего, вне зависимости от воли хозяина, и форму, и суть. По утрам к тому же он имеет мерзкую привычку будить своего несчастного властелина позывом абстрактной страсти, позыва отвратительного и бессмысленного не столько своей безадресностью, сколько изматывающей настойчивостью. Я прикасаюсь к нему и тут же отдергиваю руку. Это не эрегированный мужской половой член, это что-то вроде хрупкого хрустального бокала, готового рассыпаться от любого неосторожного дуновения. Господи, когда же это кончится! Ведь каждый день одно и то же.
Самое смешное, что, окончательно проснувшись, я обнаруживаю себя изрядно придавленным к стене. Придавленным ничем иным, как голым задом. Испытав мгновение испуга – ведь зад не имеет почти никаких половых признаков, и кто знает, что могло произойти в пьяную ночь, – я легко покрываюсь холодным потом: у жизни вечная нехватка розовых лепестков, от нее все время ждешь какой-нибудь гнусности. Но быстро прихожу в себя (выручает интуиция закаленного в сексуальных схватках сластолюбца): аппетитность и нежная мощность этих полушарий говорят сами за себя, даже не говорят – вопиют о своей принадлежности существу противоположного пола. Значит, ночь прошла своим чередом.
Ночь любви и пьянства, после которой не под силу ни раскрыть, ни даже удержать в руках том «Войны и мира», но либидо кипит с неослабевающей силой – удивительный я человек. Впрочем, для поэтов привычно состояние похмелья и всестороннего раздрызга.
Сколько произведений разной степени гениальности породило оно!
How do you sleep, мистер Сёркин?
В гудящей голове осторожно ворочаю мысли-валуны, пытаясь угадать с трех раз, кого же из моих знакомых дам я осчастливил нынче ночью. Еще раз прихожу к выводу, что как отгадчик шарад я абсолютно не состоятелен и решаю довериться цепкости и несгибаемости осязательной памяти.
Рука неторопливо совершает путешествие по просторам загадочной попки. Ее соблазнительная объемность и головокружительная мягкость говорят о том, что принадлежать она может либо Татьяне, либо Ольге. Нет, господа, они не сестры, они даже не догадываются о существовании друг друга. Просто зады у этих двух дам сотворены Природой по одной божественной пресс-форме, вне всякой зависимости от родительских генов.
Исследование попы сужает круг подозреваемых, но окончательный вывод возможен только после следственного эксперимента.
С некоторым усилием раздвигаю налитые прелестной тяжестью ягодицы и, с первозданным волнением обнаружив теплый вход влагалища, подталкиваю в него свой капризный орган сладострастья. Зад партнерши с поразительной готовностью отзывается, начинает ритмично двигаться, с каждым толчком наращивая амплитуду и частоту колебаний. Так отзывчива, может быть только Ольга, успеваю я сообразить в самый критический момент, когда моя плоть взрывается на удивление скорым для похмельного синдрома, но традиционно бурным опять же для похмельного синдрома фейерверком наслаждения. Волна удивления необычным эффектом было поднимается в душе. В тот же момент моя дама исторгает крик, который может восприниматься как крик только непосвященными в таинства секса. Я же крик такого рода слушаю как песню. Ее поют все женщины мира в мужских объятиях, если все идет как надо. Слова этой песни, когда-то давно написанные Змеем-искусителем, неизменны и заложены в подсознании каждой дочери Евы. Но мелодия у каждой из них своя. Неповторимая мелодия страсти.
Я знаю наизусть слова этой песни – благо моментов для их изучения у меня было предостаточно, считаю их гениальным творением, слившим воедино дьявольское и божественное, и всегда впадаю в эйфорию, когда слышу эти сверхъестественно-сверхбожественные звуки.
Но на этот раз что-то мешает мне насладиться до конца.
Возникает еще одна волна удивления, смешивается с первой, образуя завихряющий мозги бурный поток. Мелодия песни моей дамы мне незнакома! Я слышу ее впервые! В фонотеке моей сексуальной памяти нет ничего подобного.
Вы скажете: с кем не бывало, кому из нас не приходилось просыпаться рядом с совершенно голой и совершенно незнакомой женщиной? Со мной не бывало, мне не приходилось! Личное знакомство с женщиной перед тем, как лечь с ней в постель, – непреложный закон для меня. А забыть даму, с которой вечером познакомился – тем более, если она обладает столь выдающейся попкой, не только позорно, но и непростительно. Неужели старею?
Благодарная влажность поцелуев усиливает мое смятение. Приложив некоторые усилия и вырвавшись из затухающего огня женской неги, обнаруживаю в своих объятиях и не Ольгу, и не Татьяну, а совершенную незнакомку, с которой вяло-загадочной красотке, изображенной Крамским, даже равняться смешно.
Похоже, она замечает изумление в моих глазах, но не знает к чему его отнести. Проблему она решает по-своему, хотя и не слишком оригинально: заползает с головой под одеяло, скользя по напрягшимся мускулам моего тела, как гюрза по отвесной скале, находит ртом обессилено опавший пенис и приступает к волшебству, которое изысканная эстетика индийской эротики, называет игрой на флейте любви.
К этим музыкальным экзерсисам на собственном сексуальном органе привыкнуть невозможно. Тем более, если ловкий язычок и мягкие губки обладают изрядной фантазией в области сосательно-глотательных движений. И вскоре неизвестная мне дама, чей зад знаком мне до боли, резвится золотым петушком на моем вновь воспрявшем и несгибаемом члене, сотрясая диван мощными толчками.
Уже несколько равнодушный к ее страсти я обдумываю создавшееся положение. Если я спал не с Ольгой, то, какого же черта я до сих пор в постели с другой женщиной, пусть милой и вполне компанейской. Ведь утро, судя по бешеным солнечным лучам, ломящимся в окно, уже в самом разгаре. Скосив взгляд на будильник, с ужасом понимаю, что до прихода Татьяны, которой вчера днем я, кажется (а теперь я уже ни в чем не уверен), назначил свидание, остается минут 20.
Принимаю срочные меры для доведения партнерши до оргазма. Извернувшись в замысловатом акробатическом этюде, средний палец правой руки помещаю на ее анальном отверстии (оно тотчас же отзывается трепетно испуганным сжатием). Средний палец левой – на клиторе (этакий сорванец, все время норовит улизнуть!). Секунда, другая, что же она медлит? Нечеловеческим усилием напрягаю все мышцы и пещеристые тела пениса. Еще немного дожать. О, как я понимаю штангистов. И только тогда начинаю ощущать мягкие, но отчетливые спазмы влагалища. Наконец-то!
Моя дама в истоме низвергается на постель. В этот момент она очень похожа на драгуна, порубленного кривыми саблями янычар. Я же, наоборот, проворно вскакиваю, быстро натягивая одежду и бормоча какую-то околесицу о срочных делах.
Ей, похоже, торопиться некуда. Не спешно посетив ванную, она также лениво одевается, на ходу диктуя мне телефон, а заодно имя и фамилию. Ага! Ее зовут Евгения. Прекрасно. Пусть и постфактум, но отчитался перед совестью. Ну а теперь – бай-бай, моя малышка!
Мы вместе выходим из дому. При чем я едва способен скрыть уколы тысяч иголок, колющих душу изнутри. Евгению же мое волнение как будто заставляет быть еще более расслабленной и неторопливой.
Прощаемся у куста жасмина, скрывающего наш долгий поцелуй от неусыпного соседского ока. Чудесное июльское утро расточительно льет на нас свое бодрящее благоухание. После крепкой сексуальной встряски – лучшего средства от алкогольных недугов – это изрядно проясняет мысли.
Она идет к трамвайной остановке, а мне, якобы, – на троллейбус. На несколько секунд во мне просыпается давно уснувший талант спринтера, способного составить конкуренцию самому Карлу Льюису. Стремглав обегаю вокруг дома, прикидывая в уме между прочим, где я мог познакомиться с Евгенией, но, воспарив на лифте в квартиру, тут же о ней забываю – телефон рассыпается в прах от звона.
Да, это Татьяна. Говорит с телефона-автомата в двух кварталах от моего дома. Прекрасно. У меня еще есть немного времени, чтобы навести относительный порядок и поменять простыни.
11.30. А вот и она, моя северная красавица: широка, глубока, стройна. Швыряет сумочку в кресло, не обращая внимания на сохранившиеся следы бардака (впрочем, бардак вечен), сама плюхается в другое и начинает плести нить своей обычной околесицы.На любимую тему преподавателей английского языка – моя семья. Дочка только что отправлена в школу для особо интеллектуальных вундеркиндов. Муж – третью неделю в командировке в Верхнем Уфалее («забавляется с провинциальными шалавами»). Свекровь закупила тонну свинины, нужно забирать, а у нее холодильник не резиновый. И т. д. И т. п.
Я присаживаюсь рядом на ковер и, как бы невзначай, запускаю руку под легкий подол шифонового платья. Она делает вид, что не замечает моих ласк. Обычная наша игра. Татьяна болтает безумолку, я невозмутимо демонстрирую ловкость рук.
О, боже! Эти восхитительные, колышущиеся ляжки, с брезгливой преданностью принимающие прикосновения мужских пальцев. Эти мгновенно увлажнившиеся трусики, под которые, несмотря на всю плотность их прилегания к телу, легко проскальзывают страждущие пальцы. О, эти не ведающие предела набухания, малые губки!
Татьяна болтает. Я терпеливо ласкаю ее шаловливый клитор и величественное влагалище; не самое скучное занятие, господа, при одном условии: женская физиология и поэзия Рильке должны быть для вас вещами одного порядка.
Татьяна кончает все в той же нейтральной позе сплетничающей женщины, не приподняв платья, даже не приспустив трусики. Кончает где-то между ценой на капусту и последней серией модного телесериала. Теперь уже без неожиданностей: я слышу знакомый вопль-песню, в котором мне знакома каждая нотка и каждая пауза, идеальная повторяемость которого так ласкает слух.
Прекрасно. Татьяна получила свое. Пора и мне приступить к привычной процедуре.
Поласкав шею и ушки моей прелестной собеседницы, так и не унявшей словесный фонтан, я выпрямляюсь во весь рост и решительно расстегиваю молнию брюк. Ее лицо слегка вытягивается (обычные Татьянины штучки, необходимый элемент нашей любовной игры). Но болтовня не прекращается.
Наступает критический момент, так приятно щекочущий нервы, так своей безыскусностью крепко меня восторгающий, а Татьяну – я уверен – еще больше. То, что на ее лице гримаска неудовольствия, ничего не значит. В глазах, зато, жадный блеск голода по этой супер-карамельке, бесстыдно выпрыгивающей из моих штанов. Смотрите, завидуйте!
Наконец-то ротик Татьяны занят стоящим делом (прошу прощения за каламбур). Пустопорожний поток слов прерван. Возникает долгожданная тишина, если не считать сладчайших причмокиваний и вздохов. Становится даже как-то не по себе, хочется заполнить внезапную звуковую брешь. Дотягиваюсь до магнитофона. Нажимаю кнопку, и возникает «Lady In Red», непревзойденный гимн сексу, сопряженному с похмельем.
С последним аккордом поток тугой отборнейшей спермы устремляется в темную глубину Татьяниного рта. Ошеломленный оргазмом я опускаюсь на ковер. Татьяна царственно перешагивает через мой поверженный усладой труп и, зажимая ротик руками, вдруг мчится в ванную. Моральный кодекс домохозяйки и матроны мешают ей проглатывать сперму любовника. Бог ей судья. У других моих подруг иные принципы. А у некоторых их нет вообще. В этом я усматриваю разнообразие, что само по себе прекрасно, поскольку без разнообразия – нет гармонии.
Аудиенция закончена. Новости исчерпаны. Расстаемся до следующей встречи по-деловому, но радостно, с шутками-прибаутками, в предвкушении будущих встреч. Юмор свойственен не только музыке, но и сексуальным отношениям.
С ее уходом я сейчас же переключаю биоволны на Ольгу. Свидание с ней назначено только на 5 часов вечера. Чем-то нужно занять время.
Прогуливаясь вдоль кухонного окна и наблюдая за суетой загружающихся в соседний дом новоселов, вспоминаю о новой соседке, въехавшей в квартиру этажом выше неделю назад. Я до сих пор не соизволил ни представиться и ни засвидетельствовать свое почтение. Совершенно непростительное упущение. Еще немного и подходящий момент для того, чтобы исправить положение, будет упущен. Ведь возможен вариант с врезанием замка или развешиванием книжных полок, что как нельзя лучше способствуют установлению с одинокими женщинами добрососедских отношений, подразумевающих и в дальнейшем различные услуги по мужской части.
12.30. Какой-то остолоп уже копошится у новенькой металлической двери. Углублен и сосредоточен так, будто и не подозревает о полагающемся слесарю-самцу гонораре. Жалкий, но типичный пример кретинизма с примесью комплексов и импотенции. Ну, его к черту!
В запасе у меня все равно соседняя дверь. Звоню. Олух-перехватчик слишком усердно стучит молотком, мешает прислушиваться. Кроме того, от волнения у меня начинается ломота в висках. Как у начинающего актера. Чего тут больше – негодования, оскорбленного самолюбия или ожидания встречи с той, чьи легкие шаги все-таки слышатся из-за двери. По странному стечению обстоятельств Вероника оказывается дома. Значит, сегодня мой день.
Тоненькая тростиночка Вероника – дочь моей дорогой и уважаемой преподавательницы по классу рояля Инги Борисовны, женщины с множеством достоинств, одним и первейшим из которых является роскошный бюст. В отличие от мамы, у Вероники подобного бюста не наблюдается, но других достоинств не меньше.
Она радуется мне, как щенок солнечному дню. Бедняжка. Я так редко бываю у них. Я такой нехороший. Я зазнался. Я перестал интересоваться серьезной музыкой. Я забыл своего любимого педагога. Я не проявляю никакого интереса к подрастающему поколению.
Вот здесь она не права. В корне. Я испытываю обостренный интерес к племени молодому, проявившийся никак не далее двух месяцев назад, когда Вероника под моим чутким руководством и при моем личном участии лишилась девственности. Правда, нельзя отрицать и последующей позорной халатности наставника молодежи, не проследившего и не направившего должным образом процесс становления либидо молодой феи.
Поспешными нежными поцелуями ручек и ножек вымаливаю себе прощение и в знак примирения прошу исполнить на рояле одну из прелюдий Шопена. На выбор.
Ее легкие пальчики порхают над клавишами. Я сижу рядом на полу и ласкаю ее ножки. Все выше и выше. Поглаживаю прозрачные коленки. Мягкий бархат ляжек. Дрожит рояль под напором гармоний. Дрожит Вероника под прикосновениями моих жарких ладоней.
Мелодия обрывается на подъеме. Вероника кидается мне на шею, судорожно покрывая мое лицо поцелуями. Она делает это неловко, неумело и – от того – так искренне и мило, что я смущен как никогда. Смущение придает сексуальному возбуждению небесно-ангельскую окраску, но никак не препятствует ему. Наоборот.
Она так тесно прижимается, что мне с трудом удается распахнуть ее халатик. Еще большие неудобства доставляет мне собственная одежда.
Но вот мы обнажены и катимся под рояль. Секс с неопытной партнершей безыскусен, но обладает неоспоримым шармом. Секс с неопытной партнершей пылок, зноен, скоропалителен и очень похож на стометровый забег в паре с всё с тем же пресловутым Карлом Льюисом. Неопытная партнерша еще не отдает полный отчет своим чувствам и ощущениям. Секс представляется ей неким чарующим монстром без головы, хвоста и ног (безо всяких двусмысленных намеков, потому что фаллос пока не ассоциируется ни с наслаждением, ни с агрессивностью, ни с любовью вообще), без начала и конца. Секс начинается для нее первым робким поцелуем, но не заканчивается оргазмом, который, даже достигнув, она еще не способна осознать во всей его пугающей красоте и силе. Ах, феи, феи, как вы по-осеннему наивны!
Кажется, что я как наиболее опытная и хладнокровная сторона способен сдержаться, но юная похоть вскоре заводит меня до предела.
Вероника еще испытывает священный девичий трепет перед мужским членом, его внушительным и авторитетным видом. Поэтому мне самому приходится проводить энтромиссию, операцию по проникновению органа, к которому нежные девичьи ручки боятся прикасаться, в девичье же узенькое влагалище, источающее, однако влагу щедро, совсем по-женски. (Что это я? Заладил: девичье, женское. Женщина бывает девственна только раз в жизни, как севрюга только раз бывает первой свежести, в самую первую ночь, когда существование этой самой девственности фиксируется как непреложный факт. О, хирургических фальшивках говорить не будем).
Не пристало мне, многоопытному сексоведу и женолюбу, чураться работы собственными руками. Я очень осторожен, но сказывается отсутствие привычки к делу, в котором взрослые женщины не только проявляют чудеса ловкости – они считают оскорбительным для себя допускать к этому действию мужчину. Вероника к тому же нетерпелива как все неопытные и страждущие. Я вхожу в нее с обоюдным для нас обоих ощущением легкой боли. Чудесное ощущение боли новизны, благодаря своему небесному происхождению оно способно повторяться (правда, весьма ограниченное число раз) и жить в нашей памяти (правда, в зависимости от климатических условий души). Каково завернул?
Грубый козлоногий фавн овладевает нежной нимфой – это я все еще немного отстраненный вхожу в хрупкое тело Вероники.
От мамы Вероника унаследовала не пышную грудь, а бешеный темперамент. Она активна. Она суперактивна. Мама, ваша дочь прекрасно больна – суперактивностью! Активность увеличивает ее силы в несколько раз, благодаря чему ее бедра подкидывают мое не самое сухопарое в мире туловище к днищу рояля. И я даже несколько раз испытываю кожей ягодиц его шершавую поверхность, что опять же вносит в мои переживания любовника-борца новое и необычное.
Но сумасшествие кончается быстро. В какой-то момент Вероника как будто пугается и с жутким стоном, на который вряд ли была способна даже Клеопатра, резко отстраняется. Пенис взлетает в воздух, исторгая на плоский девичий живот (опять «девичий», но до женской основательности ему и в самом деле далековато) фонтан перламутровых брызг.Оказывается, эта неопытная чертовка отлично знакома с технологией зачатия, и, конечно, ничего такого не желает. То, что я принял за испуг, всего-навсего предосторожность. Удивительно: я – наставник – потерял голову, а она – воспитанница – четко определила нужный момент, несмотря на весь свой пыл. Если так пойдет дальше, ученица неминуемо превзойдет учителя.
После душа мы выпиваем по глоточку сухого вина из маминого тайника. Обнаженная Вероника присаживается к инструменту. Голая и прекрасная доводит прелюдию Шопена до логического конца, пока я привожу в порядок дыхание и прихожу в себя, наслаждаясь видом великолепной и страстной музыкантши.
13.30. Звонок в дверь. Я скоропалительно предлагаю не открывать. Но Вероника кого-то ждет. Заставляет меня срочно одеться и бежит открывать.
Я не вижу визитера, но по звукам, доносящимся из коридора могу догадаться: это тот гнусный тип, который возится с дверью нашей новой соседки. Ему, видите ли, требуется помощь крепких мужских рук. Что ж, я готов.
Уход. Точнее, исход. В жизни героя-любовника он играет большую роль. Существует целый свод правил ухода-исхода от любовницы, несколько отличающийся от общепринятых правил хорошего тона и предназначенный, прежде всего, для того, чтобы не обидеть Даму поспешным уходом, не дать Даме ошибиться в границах власти над любовником неспособностью уйти как подобает мужчине, не забыть о благодарности за доставленные мгновения блаженства, посеять на всякий случай в ее душе пару зерен сомнения по поводу предстоящих свиданий, ну и так далее и так далее. Поговорим обо всех этих тонкостях, господа, в другой раз. Упомяну только главное правило: каждая Дама требует ухода. Понимайте, как знаете, лучше объяснить я не могу, а лучше поясню на примере Вероники.
Перед уходом задираю ее халатик и запечатлеваю на ее едва опушенном лобке нежнейший поцелуй. Она хохочет, ей щекотно. С тем и расстаемся, я – с горящими от поцелуя губами, она – с горящим от поцелуя лобком. Прекрасно!
Со слесарствующим типом мы быстро доводим дверь до ума. После чего он принимает весьма озабоченный вид опаздывающего человека, швыряет инструменты в сумку, громко сообщает неведомо кому в глубь квартиры, что работа закончена и удаляется скорой поступью горного козла. В глубоком раздумье я остаюсь один. Тёмный омут моей интуиции слегка бурлит.
Оказывается хозяйка принимала душ, о чем она незамедлительно сообщает, появившись минут через 5. Она, похоже, принимает меня за мастера: есть такая черта у господ, привыкших к сервису, – для них вся обслуга на одно лицо.
Она вопросительно смотрит на меня, я – на нее, как зеркало, отражая выражение ее глаз. Я не спешу объяснить недоразумение – поспешность в общении с женщинами вообще ни к чему. Она же понимает мое выжидание по-своему. Вынимает кошелек и, с бормотанием что-то на счет того, что фирме уже все оплачено, но что она мне так благодарна, протягивает деньги. Я с тихим смирением отказываюсь (гусары денег не берут, тем более авансом – ремарка для зрителей). Ну, тогда выпьем кофе. Вот это то, что нужно.
Хозяйка средних лет, среднего роста, среднего телосложения. Внешне неброская, дышащая после ванны свежестью среднерусской равнины, лишенная всякого косметического камуфляжа, – она источает покой и уравновешенность. Мы пьем кофе. Беседа наша нетороплива и добросердечна.
Я не жалуюсь. Это не в моих правилах. Я просто размышляю вслух. О своем душевном одиночестве. Постоянной загнанности в угол. О тоске вечеров. Она говорит почти о том же. Может быть, не столь образно. Впрочем, моя собеседница только поддакивает. Мои слова так близки ей, что собственные ее формулировки не имеют значения. Достаточно того, что я выражаю скупыми фразами то, что она давно ощущала, но боялась высказать.
Я замечаю, как теплеет ее взгляд. Как сознательно или бессознательно она придвигается ближе. Как ее рука приближается к моей. Но, господа, предупреждаю, никогда не надо форсировать события. Закурим.
Сладчайшие затяжки. Я умолкаю. Теперь ее очередь. Высказываясь, она должна, по моим понятиям, произвести сексуальный аутотренинг, настроиться на мою волну окончательно – на это есть время, должен же я прийти хотя бы в приблизительную физиологическую форму.
Это даже не речь. Это жалоба моряка на жестокость ветра и непредсказуемость волн. Достаточно эмоционально и бессвязно. Но как чувствительно!
Следующий момент времени застает меня, грустно стоящим у окна. Жалкий окурок в руке. Тоненькая струйка дыма. Тишина.
Когда я приближаюсь к ней, она еще пытается задать какой-то глупейший вопрос. Но мне уже не до дискуссий. Мои ладони притягиваются нестерпимой гравитацией её тяжелых грудей, едва прикрытых мягкой тканью халата. На ощупь они оказываются удивительно и даже как-то радостно податливыми полушариями. Их хозяйка следует их примеру. Она с облегчением поддается моей атаке. Сдается на милость победителю, следуя старой и мудрой истине: скорее бы война, да в плен сдаться. А что, разве у нее был выбор?
Халат сброшен на пол. Наш поцелуй горячен и тревожен – так могут целоваться только милосердный победитель и побежденный, всецело признающий поражение. Она обнажена. Я до сих пор одет. В следующий момент она отталкивает меня и, задыхаясь, шепчет в ухо, что в постели нам будет удобнее. Мне немного щекотно и немного смешно. Я легко соглашаюсь. Пока мы неуклюже – между поцелуями и ласками, как между Сциллой и Харибдой, – движемся по направлению к спальне, я по ходу нашего следования в порыве романтического своеволия разбрасываю одежду, прекраснодушно предоставляя ей полную свободу в выборе места под солнцем в незнакомой квартире. Я так безумно романтичен!
В постели не происходит поначалу ничего из ряда вон выходящего. Порыв и анархия, властвующие над ее телом, сразу приводят меня к мысли, что эта женщина нуждается в дирижере, виртуозе профессионале, не знающем сомнений. Я с воодушевлением принимаю эту роль: раздвигаю её ноги, укладываю спиной на кровать (а сам, стоя на коленях, легкими хулиганскими прикосновениями головки пениса привожу в смятение ее вагину), поворачиваю спиной к себе, ставлю на четвереньки, даю в руку пенис, строго и внушительно подрагивающий. Она – уже послушный инструмент моей желания, Галатея, с готовностью заполняющая пространство своего влагалища упругой агрессивностью и невыносимой теплотой бытия.
У многих снобов от секса ее влагалище вызвало бы приступ истеричного негодования – настолько оно обширно. Но его подвижность и натренированность легко окупают этот незначительный, на мой демократический взгляд, недостаток: оно как будто само по себе обладает ярким воображением (в отличие от хозяйки или в пику ей). Как бы мы не двигались, какие бы позы не принимали, ее влагалище опережает все наши выкрутасы. Дрожание, влага, нетерпение, раболепие, нега, страсть, любовь (да, да! Эти мгновения – любовь, только она так безоглядна, бездумна и восторженна) волна за волной обрушиваются на мой член, на этот наглый погрязший в самомнении и себялюбии отросток. Теперь его очередь приходить в смятение. И есть отчего, когда ты отдан во власть непредсказуемой стихии. О бедный мой, член – ты словно утлый челн.
Я закрываю глаза (что делаю сравнительно редко в такие мгновения, вопреки всем утверждениям прекраснодушной стерве Руфь Диксон; странная бабенка, эта Руфь, надо сказать. Не мешало бы с ней поболтать с глазу на глаз, только нужно выбрать время). Я закрываю глаза, и мне кажется, что я в объятиях сверхженщины, superwoman, способной доставлять мужчине абсолютно непредсказуемое, абсолютно безграничное наслаждение.
Она – само наслаждение, растворяющее в себе маленькую мужскую песчинку, жалкую молекулу – сперматозоид, чей устремленный вверх знак-стрелка кажется не более чем неудачной шуткой. Я с трудом прихожу в себя, едва избежав решительного и окончательного растворения и аннигиляции, так и не кончив, так и не испытав примитивного физиологического облегчения семенных протоков. Но что может сравниться с чудовищно растянутым во времени преддверием оргазма, самым таинственным и самым неповторимым момент любовной схватки, имеющим почти непобедимую склонность к мимолетности.
Откуда-то из потустороннего мира выплывает циферблат. С удивлением обнаруживаю, что минул почти час с того момента, как я с некоторой долей легкомыслия вступил в любовную схватку. Следующим объектом в поле моего зрения оказывается странно колышущаяся тень на фоне окна. Отмахнуться от нее как от наваждения не удается, и вскоре она формируется в контуры недавно покинувшего эту квартиру слесаря. Пребывающий в столбняке, он то ли восхищен, то ли возбужден. Но тем не менее слышится бормотание на счет новых ключей, которые он забыл оставить хозяйке и которыми догадался воспользоваться, поскольку на звонки не получил никакого вразумительного отклика, кроме нечленораздельного шума и выкриков. Я передаю шепотом его слова моей партнерше, без всяких признаков жизни прикрывающей мое тело, как соратник на поле брани.
Некоторое время она не отзывается. Потом медленно, очень медленно, становится надо мной на четвереньки и, также медленно, с какой-то застывшей циничной ухмылкой, плохо гармонирующей с ее простодушным лицом, небрежно коротким жестом приглашает слесаря присоединяться.
Пока мастер гаечного ключа и зубила торопливо расстегивает штаны, она на ощупь находит на тумбочке махонький флакончик с маслянистым содержимым и неожиданно ловким движением, изящно прогнувшись, смазывает маслом следующее по порядку за влагалищем, чуть менее броское, но по-своему симпатичное отверстие.
Ну что ж, господа, говорю я себе: хор – так хор.Многоголосие имеет неразрывную связь с разнообразием. Прекрасно! Кому-то спинтрия покажется развратом, кому-то слишком сложным занятием. Для меня же любое припятствие-неудобство-сложность лишь вносит в секс необходимый элемент интриги и остроты ощущений. Эрекция (какая по счету за день?) не спешит посетить мой член благословенным присутствием. Упрямый пенис вяло поводит головкой из стороны в сторону, всем своим видом демонстрируя индифферентность и равнодушие к происходящему. Но ловкие женские пальчики ловят нерадивого, наставляют его на путь истинный. Потребовались бы немыслимые ухищрения, чтобы заставить этого полумертвого удава вползти в норку, если бы не по-осеннему радушная и влажная распахнутость ее входа.
Но стоит только моему заскучавшему члену почувствовать параллельные вибрации пробирающегося окольными путями собрата, воспринять нервное подрагивание нежной телесной стенки, разделяющей два столь непохожих туннеля любви, как к нему возвращается прежняя гордость, заставляющая его воспрять. Великоросская гордость плавно переходящая в германскую твердость, скандинавскую неустрашимость и польскую несгибаемость. Что еще пропустил? Да! Персидскую томность, монгольскую свирепость, иберийскую пульсацию, саксонский ритм, самурайскую созерцательность, африканскую кровь, кроманьонскую сперму…
Мой оргазм неспешен. Он словно раздроблен на части, на доли и такты. Слабая часть, ударная, пауза и снова по кругу или вразброд. Это по-настоящему женский оргазм – не по способу его достижения, а по красоте и широте палитры наслаждений. Господа, завидуйте вашим подругам! Это я вам как доктор говорю.
Слесарь оказался малый-непромах. С таким воодушевлением навалился на представленный в его распоряжение симпатичный зад, что наша с ним общая партнерша даже охнуть не может: наслаждение серной кислотой растворяет ее нутро, парализуя голосовые связки.
Два пениса в одном женском теле – два реактивных заряда, отправляющие женщину в непролазные дебри райских кущ. Две различные судьбы, скрестившиеся в третьей таким божественным способом.
Слесарь быстро кончает и в изнеможении валится с кровати на пол, как боров, не эстетично и грубо, следуя природе пролетарского происхождения. Раскаленная до бела головка еще некоторое время как-то растеряно вертится над краем греховного ложа, а затем его пенис, подобно пиратскому флагу, медленно падает, знаменуя полный отпад. Утратившая контроль и над телом, и над душой, и над сознанием наша милая соседка представляет собой по сути дела страшную картину совершенно опустошенной женской оболочки, в которой порезвился торнадо услады. Я же до сих пор нахожусь на пике оргазма, семяизвержение длится так долго, что впору испугаться за здоровье. Но сил для испуга просто нет. И я продолжаю заниматься любовью с бесчувственным телом соседки, хотя это больше напоминает некрофилию, чем традиционный половой акт. И продолжаю почти бесполезные фрикции, теоретически уже давно способные вызвать пожар. На последнем дыхании. Я останавливаюсь только тогда, когда осознаю коматозное состояние партнерши.
Силы на пределе, но заставляю себя встать, одеться (все это я проделываю, как сомнамбула, находясь под опьяняющим действием эйфории) и ухожу, оставляя за собой поле сексуальной битвы, усеянное телами тех, кто в полной мере вкусил яд страсти.
16.00. До встречи с Ольгой все равно остается час. Потерянный час. Вычеркнутый из жизни. Трудно с этим смириться даже учитывая мое состояние, знакомое каждому мужчине, особенно с тонким художественным складом ума: после бурного оргазма следует нервное бесчувствие, на дне которого тихо плещется отвращение ко всему женскому роду. Стоит ли ради такой малости как мимолетная радость оргазма тратить столько усилий, спрашивает саму себя художественно-поэтическая мужская натура (кстати, любая женская натура задает себе такой же вопрос задолго до проникновения волосатый мужской руки под пряную сень ее юбки). В любом случае, по совету самого романтического из всех романтических певцов, Пола Саймона, нужно рассуждать логически; и логика вскоре выводит из трясины сомнений: стоит, конечно, стоит! Даже самые жуткие усилия, даже рваные сухожилия, нервы и одежда от Ив Сен Лорана стоят того.
В плазме наслаждения жизнь и смерть сплавляются в одно целое, позволяя прикоснуться к вратам Вечности и невредимым вернуться обратно. Всё что я могу, господа, приклонить колени перед этим чудом.
На самом же деле я брожу вокруг холодильника, перед которым приклонять колени бесполезно. Пока я соображаю, чем подкрепить растраченные силы, раздается звонок в дверь.
На пороге моя бывшая одноклассница и по совместительству моя подростковая любовь. Она несколько располнела, но от этого ее облик лишь слегка размылся, словно окунулся в дымку, которая делает ее черты еще более загадочными. Эти черты так пугали и так влекли меня в годы юности.
Передавать наш бессвязный полувосторженный, полу – недоуменный диалог бесполезно, тем более, что он все равно заходит в тупик. И мы, толкаясь, бросаемся на кухню, чтобы припасть к кофейнику как спасительному роднику ясности и осмысленности. Пьем кофе, усиленно курим, окунаясь в былое и клубы табачного дыма. В голове я прокручиваю возможные варианты ее визита. Но не вижу ничего реального. Все мои попытки добиться от Аллы конкретного ответа натыкаются на шуточки-прибауточки, замешанные на добротном цинизме, что говорит о значительном жизненном опыте моей бывшей любви. Смешно, но я попадаю в глупую ситуацию: не могу прервать разговор и выставить гостью, придет Ольга, увидит постороннюю женщину… Куда смешнее!
Что ж пусть все идет, как идет. Во всех случаях нужно оставаться джентльменом. А там видно будет. Тем более что в сексуальном плане я не представляю сейчас ни для кого никакого интереса. Разве что для педика-некрофила.
Поэтому когда Алла невзначай касается коленкой моего бедра, я остаюсь холоден, как клинок самурая. Разве можно вернуть былое?
… Впрочем, почему бы и нет?..
Даже немного обидно, что я выжат, как лимон. Неосмотрительность, бесконтрольный расход, и вот вам результат. I’m so tired, у меня смыкаются веки в тот самый момент, когда напротив сидит очаровательная дама, которой в прошлом посвящены десятки юношеских поллюций и стихотворений. Она уже недвусмысленно дает мне понять, о своем решительном намерении отдаться мне, она уже гладит мои руки, она уже раздвигает колени и туманит взгляд, а во мне даже гипоталамус не шевелится. Чертовски смешно!
Мысли, как я не стараюсь, все равно вертятся вокруг прихода Ольги (не думать о белом медведе!). И она не заставляет себя ждать. На этот раз Ольга непривычно точна.
Дверной звонок оживает в забавный момент. Немая сценка достаточно выразительна: Алла в порыве шаловливого отчаяния задрала мини-юбку, демонстрируя крепкое бронзовое бедро вкупе с круглой, как мяч, ягодицей того же южного цвета. Я немного смущен и ошалело вкушаю представшую картину.
В ответ на вопрос в ее глазах я пожимаю плечами и бреду в коридор, на ходу – джентльмен все-таки – погладив Аллу по голой попке, автоматически отметив в мозгу ее завидное пренебрежение к обычаю носить нижнее белье. Все-таки жизненный опыт что-то значит.
В ураганном порыве Ольга врывается в квартиру, не замечая никого и ничего вокруг, натыкаясь на отдельные столы и стулья, начинает тут же раздеваться и создавать из разбрасываемой одежды причудливую композицию в стиле Сальвадора Дали (пару раз она даже поправляет брошенный на спинку кресла бюстгальтер, не совсем эстетически свесивший свои бретельки). Она и мне успевает расстегнуть брюки и запустить руку в их пучину, не найдя для себя ничего интересного, впрочем.
Я уныло бреду на кухню, где приступаю к завариванию очередной порции кофе. За хлопотами я отключаюсь и совершенно выпускаю ситуацию из-под контроля: пусть все идет, как идет.
Когда же я появляюсь на пороге комнаты с дымящимися чашками на подносе, передо мной открывается еще одна волшебная картина, теперь уже в духе Энгра. В кресле у правой стены в позе усталой весталки покоится обнаженная Алла-одноклассница. В кресле у левой стены, бесстыдно раскинув ноги на подлокотники, расположилась столь же обнаженная Ольга-гетера. Это похоже на дуэль; в качестве оружия выбрана нагота. Вам случалось видеть такое, господа?!
Стараясь держать себя в руках, как ни в чем ни бывало, прислуживаю гостьям, мечтая об одном: только бы не поддаться волнению, только бы не опрокинуть чашки и не ошпарить кипятком самые нежные местечки моих дам.
На фоне гробовой тишины, которая может предвещать все что угодно, кроме самой тишины, тонизирующий напиток кончает свой век в двух женских и одном мужском желудках (как вы думаете, есть половое различие между желудками?). Сославшись на кромешную физическую усталость, я вежливо прошу разрешения откланяться и неспешно пересекаю комнату, машинально, по выражению Балаганова, прикоснувшись сначала к столь привычному шатеновому лобку Ольги, а затем – что же остается делать прирожденному демократу? – к знакомому только по горячечным сновидениям рыжеватому лобку Аллы. Такой вот прощальный жест.
Некоторое время я провожу, лежа на кровати в гордом одиночестве узника собственного либидо. Я раздет. Мне никто не нужен. Но я чего-то жду. Предчувствия меня не обманули.
Как чертик из табакерки возникает взлохмаченная Ольга, готовая ко всему, разве что не к труду и обороне. Ее взбалмошность и почти детская непосредственность всегда оказывали на меня благотворное влияние. Вот и на этот раз дремавшее во мне возбуждение поднимается волной.И вскоре превращается в цунами.
Ольге не требуется никаких предварительных ласк, она и так на взводе. Сгорая от нетерпения, она ловит непослушными пальцами мой столь же непослушный и, еще не совсем окрепший в своей мужественности, член, пытается его втолкнуть, впихнуть, вонзить во влагалище, будто средневековое орудие пытки в недра плоти раскаявшейся грешницы. Быстро-быстро. Безоглядно. Безропотно. Бессмысленно. Мне даже кажется, что впопыхах она способна оторвать мой тщеславный пенис, не заметив и не пожалев об этом.
Проникновение в недра страсти происходит тяжело, но Ольге только того и надо. Ее девиз: чрез тернии – к оргазму; она тут же начинает кончать (извините за каламбур). Она кончает раз, другой, третий, несмотря на то, что член едва ли продвинулся и на половину своей длины. Она спешит поймать кайф – и это у нее получается, как ни странно, редкое качество для женщин, почти извращение с точки зрения христианских догм. Она торопится сломя голову за наслаждением, и, как оказывается, не зря.
На пороге спальной, словно из воздуха сотканная, тиха и ненавязчива, возникает Алла. Очень вежливо она хочет узнать у нас, не помешает ли она нашему столь активному и увлекательному общению. Что и говорить, воспитание спецшколы – это на всю жизнь.
Ольга, кажется, ничего не замечает. Все ее естество поглощено энергичными и грубыми круговыми движениями ее крупного зада, все дальше и дальше навинчивающие Ольгу на мой член. Эта грубая энергия невольно рождает в голове ассоциацию с гайкой и болтом (ах, теперь я наконец-то понимаю этимологию главенствующей метафоры любовной лирики Аркадия Северного!).
Я предаюсь сладчайшему безделью, прелесть которого может оценить только русский человек с его обломовщиной в генах, с любопытством исследователя морского дна наблюдая за своей первой любовью. Не глядя на нас, она распускает волосы, снимает оставшиеся украшения. Когда Алла осторожно взбирается на постель, Ольга совершенно неожиданно для меня издает мягкие горловые звуки с какими-то ободряюще-приглашающими интонациями. Алла воспринимает все происходящее как само собой разумеющееся.
Я до сих пор нахожусь внутри Ольги, которая просто кипит от избытка наслаждения и способна издавать лишь бессильные звуки. Алла касается языком моего живота – змеиная невозмутимость, дьявольская точность и расчет. Во мне все переворачивается, растущий и ширящийся цунами возбуждения заставляет другую женщину, которая еще обладает моей плотью, перешагнуть точку кипения: в великолепном замедленном пируэте Ольга поворачивается на пенисе, как на оси, и остается на нем, упав грудью на мои колени, покрытые мурашками сладострастья. Это не сон. Или все-таки сон? Я беру в руки то, что видел давным-давно во сне – любимые и недоступные груди… Мой палец скользит вдоль трепещущих лепестков половых губ… Мой язык приникает во влагалище, превратившееся в неиссякаемый источник влаги любви…
Сам я превращен в мальчишку, незадачливого наивного мальчишку, для которого обладание любимой было когда-то сродни волшебству, немыслимому, потустороннему. Снова апрельский день, ослепительный, невероятный. Снова я, уносимый грезами в запредельные пространства, ласкаю гибкое тело властительницы таинственного и влекущего мира, непостижимое девичье тело. И неважно, что та девочка из апрельского сна лишь угадывается в располневших формах опытной и много чего повидавшей на своем веку женщины. Невинность мерцает за матовым стеклом греха, но чем дальше, тем явственней проявляются ее контуры. «Мне снился сон, он не совсем был сном…».
Итак, я – мальчишка. Что можно ожидать от мальчишки, не помнящего себя. Когда я, наконец, покидаю влагалище Ольги, Алла уже лежит на спине, в классической позе, в которой захмелевшие школьницы обычно отдаются полупьяным одноклассникам. И я вхожу в нее без сопротивления, как нож в масло, как ключ в замочную скважину. Пара рывков, и уже не вселенная, все мирозданье вливается в мои жилы, заполняя собой все мое жалкое тело. Кажется, что непостижимая громада – без границ – внутри меня должна взорваться всепожирающим взрывом, а он все не происходит, все медлит. И это длится вечность. Длится и длится, пока не приходит осмысление того факта, что взрыв уже наступил и просто стал продолжением вечности. И взрыв длится и длится. И в этом есть что-то чудовищное.
… Я проваливаюсь через скопище бессмысленных частиц, в каждой из которых равнодушно узнаю самого себя, впитываю их, накапливаю постепенно и возвращаю свою измученную удовлетворенным желанием плоть. Я с удивлением обнаруживаю, как мою горящую в любовной лихорадке мошонку ласкают губы Ольги, которая, не смотря на все свои причуды, не смогла отказаться от интеллектуальных удовольствий спинтрии.
Все, господа, полный аут! Можете делать со мной что хотите, хоть резать меня на куски, хоть насиловать целым бараком, мне все равно. Мне даже наплевать, что Алка вряд ли получила полноценный кайф, так – кое-что. Все произошло – как я понимаю – в бешеном темпе наивного школьного траха, будто украденного у общественной морали и нравственности.
В этом-то вся и прелесть.
21.30. Пока я лежал в полной прострации, наподобие бесчувственного полена, кто-то или что-то делало мне минет, целовало, лизало, ласкало, тискало, но меня уже ничто не пробирало, как хроническую cold fish. Потом от меня отстали, и я провалился в пучину сна, как в преисподнюю.
Во сне я не видел ничего. Проснулся весьма посвежевшим и почти бодрым. Прошелся по квартире в поисках гостей, но никого не нашел. О визите дам говорила лишь переполненная пепельница на кухне, да некоторая тяжесть в головке – обычное дело после сверхнапряжения пениса.
Немного смущает, что я не уделил должного внимания моим подругам, но думаю, что их знакомство друг с другом, полезное и приятное для них обеих, вполне искупает мою невежливость. С другой стороны, нет ничего глупее, чем благодарить женщину, а тем более двух, за отличный секс.
Мне становится грустно совсем от другого. Неужели вечер не принесет мне никаких развлечений? Неужели мой день – день Казановы из многоэтажки – подошел к концу?
В голове вертится туманная фраза непонятного происхождения:
«Все, что в ней было выдающегося, – малые половые губы: они выдавались над большими на значительное расстояние». О ком это, собственно? Что за бред! От подобной нелепицы, которую даже не знаешь к кому из своих любовниц отнести, потому что просто не помнишь и путаешься, болит голова. И душа. Господи, как больно!
Печально беру с полки томик Гете. «Страдания молодого Вертера». Перелистываю страницы. Успеваю дочитать до того места, где описываются восторги по поводу новой возлюбленной героя. И тут раздается телефонный звонок.
Некоторое время я в нерешительности созерцаю дребезжащий аппарат, рисуя в мозгу женский образ на другом конце провода (мужчины находятся за пределами области моей фантазии), но чрезмерные усилия лишь нагнетают головную боль. Наверное, именно она и рождает не мысль даже, а совершеннейший нонсенс: а вдруг мне действительно звонит мужчина, вдруг у какого-нибудь приятеля ко мне срочное дело. Только эти соображения выводят меня из ступора, и я хватаю телефонную трубку.
Но я ошибся. И за свои заблуждения мне придется рассчитаться: звонит женщина, с которой я имел несчастье состоять в гражданском браке целых шесть месяцев (я мог сказать – полгода, но в это слово не звучит и не отражает всей полноты кошмара моногамной жизни). Прошло чуть больше месяца со дня нашей разлуки, и она явилась с одной очевидной целью – трахнуться. Тем более что трах с утраченным супругом – занятие особенное, согласитесь, в этом есть что-то щекочущее нервы. Ева – таково ее двусмысленное имя – всегда тянулась к острым ощущениям. Ее решительность и безрассудность поначалу были мне любопытны, притягивали как все, с чем сталкиваешься редко, но в конце срока просто опротивели. Невозможно каждый день и час, и во время секса, и во время банального курения сигареты, и во время посещения сортира ощущать себя на вулкане или предчувствовать гражданскую войну.
Подниматься ко мне Ева решительно отказалась, но видеть меня ей нужно непременно, сейчас же, как можно скорее, промедление смерти подобно. Беги, кролик, беги.
Положив трубку, вздыхаю и бреду в душ. От Евы все равно не отвертишься – это подтверждает опыт праотца, поэтому следует хотя бы немного взбодриться холодной водой.
Ева ждет меня на бульваре за углом.
Назвать ее красавицей можно лишь с долей издевки над выработанными веками идеалами совершенства. Черты ее лица настолько неуловимы, мимолетны, что порой вызывают неожиданные и даже пугающие ассоциации. Издалека ее легко принять за подростка, и я иногда с опаской прислушивался к себе раньше: уж не гомосексуальное ли влечение поднимает во мне свою змеиную голову?
Когда я приближаюсь к нашей заветной скамейке, скрытой от посторонних глаз кустами акации, вижу ее хрупкую мальчишескую фигурку, как всегда напряженную и угловатую, память выручает меня, услужливо предлагая образ маленькой Евиной штучки, с ненасытно распахнутыми малыми губами, до боли напоминающей голодного птенца, но, попробуй, накорми его! О нет, Ева – не мальчишка!
Мы обмениваемся настороженными приветствиями. Закуриваем – она, чтобы скрыть волнение, я, чтобы оттянуть миг расплаты. И пока Ева излагает суть дела (бессвязный бред, совершенно нехарактерный для ее цепкого ума, но вполне годящийся в качестве повода для встречи двух идиотов), я грустно гляжу сквозь листву, за которой угадываются силуэты прохожих, спешащих успеть домой до темноты, опасающихся попасть на глаза гопникам.Все бегут сломя голову, не особенно глядя по сторонам, никому нет дела до влюбленных парочек, отягощенных взаимной половой тягой и не имеющих никакого иного прикрытия, кроме чахлых кустов акации.
В тот момент, когда Ева замолкает, запутавшись в словах или просто устав нести околесицу, к нашей скамейке подходит одна из таких парочек: двое со взорами, затуманенными то ли вином, то ли кокаином. Нас они не замечают. Они поглощены всепожирающим поцелуем а-ля «напалм». Мы для них – мелкие безобидные насекомые.
Не разнимая губ, молодые люди оккупируют противоположный край скамьи. Их движения – движения зомби – безотчетны, но точны. Сначала садится Он. Верхом на него усаживается Она. Проворные руки партнера заворачивают ее и без того короткую юбчонку до пояса. Под юбкой нет ничего, и присутствующие могут насладиться видом смуглых аппетитных округлостей. Девица, так и не прервав затяжной поцелуй, копошится некоторое время в районе гульфика своего возлюбленного, в результате чего оттуда, как джин из бутылки, выпрыгивает солидный и весьма решительно настроенный фаллос.
Дальше все происходит в ритме карнавала. Экзальтированные отроки приступают к бескомпромиссному половому акту, безыскусность и энергичность которого может оставить равнодушным только придорожный булыжник или слепца. Чем не повод, чтобы последовать их примеру? Все-таки лучше надуманных бредней.
Заряженные чужой похотью, мы с Евой бросаемся в объятия к друг другу, проникая руками под одежду, достигая интимных уголков наших тел, при этом, не забывая как истинные вуаеристы внимательно следить за сексуальным танцем соседей. Восхитительно возбудительный танец! С удивлением и восторгом я обнаруживаю нервозную пульсацию собственного члена в ладони изнывающей от желания Евы.
Заняв ту же позицию, что и соседка по скамье, Ева пару секунд тратит на то, чтобы расправиться с трусиками. Моей плотью она овладевает с безжалостностью захватчика (кажется, еще немного – и она издаст яростный победный рык).
Все происходящее напоминает конкурс гетеросексуальных танцев, в которых две необычайно техничные пары в такт, выверено до долей секунды, совершают па в жестком ритме, слышном только им. Правда, па у танца не слишком замысловаты, но в этом виновна только Природа, учитель танцев прекрасный, но с не слишком богатой фантазией.
Восторженный индейский клич, свидетельствующий об успешном достижении оргазма танцоршей из соперничающей пары, действует на Еву подобно хлысту. Ее влагалище начинает творить невероятное. На мой член, захлебывающийся в потоках вязкой теплой влаги, обрушивается лавина умопомрачительных спазмов. Ева подхватывает тональность индейской песни соседки. И теперь танцевальные состязания превращается в конкурс песни и пляски.
Возможно, кому-то из мужской половины аудитории покажется неполноценным наслаждение без логической концовки. Но – Бог мой, господа, – вы даже не представляете себе всю глубину новизны тончайших нюансов ощущений совокупления без эякуляции. Поймайте радугу, и тогда вы почувствуете слабое подобие того, что я испытал в тени акаций, оседланный Евой, гораздо более основательно, чем Хома Брут коварной панночкой.
В изнеможении Ева падает на скамью рядом с юной любительницей приключений. Пастор Шлак был бы до смерти шокирован их непристойным видом – задранные юбки, взъерошенные мокрые лобки. Но ансамбль сексуальной песни и пляски не завершил еще выступления. Короткий тайм-аут. Мужчины в припадке жесточайшей флегмы затягиваются сигаретами. Дым приятно щекочет ноздри. Где-то в заоблачных далях лениво ворочается мысль о том, что окрестности кишат потенциальными наблюдателями. Случайные прохожие, озабоченные пацаны, а то и того хуже – стражи порядка, – кого из них не остановит живописная композиция в духе Ватто, достойная внимания и юношей, обдумывающих житье, и старцев, плывущих по волнам философии и воспоминаний. Что за картинка! Загляденье, а не картинка: две расхристанные нимфоманки, в изнеможении сжимающие бедра, и два сочувствующих им аморальных типа с расстегнутыми штанами, блаженствующих в лапах никотина.
Вскоре в женской части нашего ансамбля происходит некоторое шевеление, в результате которых дамы меняют кавалеров с молчаливого согласия и из любопытства последних.
Поверхностное знание анатомических особенностей новых партнеров задерживает начало второго отделения. Но не на долго. Моя юная партнерша чересчур усиленно вертит задом, полностью уверенная в моем опыте и сноровке. И хотя мне стоит немалых усилий «забить шар в лузу», она права: я еще недостаточно стар, чтобы надеяться на помощь дамы.
Когда получено доказательство того, что игра в эротический гольф на бульварной скамье – мое призвание, и моя головка надежно уперлась в самое дно ее влагалища, по телу девицы пробегает судорога. Я не поручусь, что это судорога любви: отвращения в ней не меньше, чем наслаждения. Секс – не любовь. Секс выше любви. Секс – заколдованный коктейль, в котором любовь соседствует с ненавистью, духовное с телесным, человеческое с животным, красота с отвратительным… Так что странная судорога юной незнакомки не такая уж странная.
Но… О, женщина, имя тебе сумасбродство. Ты никогда до конца не уверена в своих желаниях. Обе наших дамы, не сговариваясь, заняли одинаковые позиции – спиной к лицу партнера. Их нравственность придушена, но не до конца, и все еще царапает костлявой рукой женскую гордость. Незнакомый мужчина, случайный половой контакт, – абсурдность ситуации заставляет избегать взгляда партнера, которые все равно, что взгляд греха – невыносим.
Второе отделение авангардного спектакля под названием «Безумству сексоголиков поем мы песню» заканчивается, как и полагается, быстрее первого. Смутное внутреннее беспокойство в душе – от предчувствия предстоящего покаяния и во влагалище – от непривычной формы и поведения пениса, обе «наездницы» обрушивают на измочаленных»скакунов» максимум усердия, стремясь любой ценой и как можно быстрее достичь вершины. И это им удается до смешного легко.
Даже не насладившись кайфом в полной мере, обе с нескрываемым облегчением спрыгивают с пенисов, торчащих как варварские орудия пыток, и суетливо поправляют юбки с видом слегка нашкодивших воспитанниц монастыря. По правде говоря, к финалу представления я и сам теряю остатки склонности к вуайеризму и эксгибиционизму. Ситуация представляется мне уже в ином, совсем не веселом, свете. Так что из юных, но уже изрядно потрепанных недр девицы мой член выныривает как-то и скучно и грустно.
Молодежь испаряется по-английски: сначала Она, гордо и не оглядываясь (секс еще не повод для знакомства), затем Он, вжав голову в плечи, смущенный и недоумевающий. Ева за скамейкой скачет на одной ножке, пытаясь одеть трусики: в зубах у нее уже зажата сигарета. Кое-как приведя себя в порядок, она просит тихо закурить. Два силуэта на заброшенной скамье, забрызганной свежей спермой, два силуэта, окутанные вечерними сумерками и дымом сигарет – чем не сюжет теперь уже для кисти Сёра.
23.00. Не знаю, сколько на самом деле у человека дыханий, но у меня последнее. Я бреду домой, мечтая об одном, о спасительных стенах родной квартирки. Кажется до нее так далеко: грязный, заплеванный, загаженный собаками и пьяницами двор, ступеньки лестницы, подъем в лифте… При одной мысли о замкнутом вонючем пространстве кабинки лифта, мне становится нехорошо. Вряд ли удастся подняться в одиночестве без тягостного эскорта какой-нибудь замученной постылой службой угрюмой личности. То, что наши замученности будут необычайно схожи, кажется мне тошнотворной гнусностью.
Я нерешительно переминаюсь с ноги на ногу, пропускаю в подъезд одиноких, холодных, помятых людей, с которыми у меня нет никакого желания иметь ничего общего.
И тут кто-то неудержимо веселый бросается мне на шею. Я едва не валюсь с ног. Кто-то завладевает моими губами. Кто-то ерошит мне волосы. Кто-то обладает выдающимся бюстом и значительным ростом, что не только не радует меня, но и мало что проясняет: среди моих подруг крайне ограничено количество малорослых женщин с неразвитой грудью. Мои несчастные обонятельный рецепторы, отупевшие от дневной круговерти запахов, вдруг взбадриваются и преподносят неожиданный подарок. Идентификация женщины успешно завершена: тончайший аромат невыразимо французских духов сопряженный с флюидами вечной жизненной радости может сопровождать только единственную. Передо мной мой музыкальный наставник, моя вечная любовь, моя благословенная Инга Васильевна.
Облегчение, которое засияло в моих глазах, ей вряд ли понятно. Я просто хорошо помню, что эта роскошная женщина не страдает бешенством матки. В любое другое время я не посчитал бы сей факт за достоинство, но только не сейчас.
Ей не понятно мое состояние, но она его хорошо чувствует. И этого достаточно. У меня нет сил говорить – она не удивлена. У меня нет желания воспринимать чужую речь – ну и хорошо. Помолчим. Посмотрим друг другу глаза. Не так уж важно понимать, главное – чувствовать. И мы смотрим друг другу в глаза, испытывая легкое блаженство, о которой так хорошо спел неподражаемо вертлявый Принс «Ooh We Sha Sha Coo Coo Yeah», что по-русски означает «Лучше всяких слов порою взгляды говорят». Пошло, но зато сентимета-а-ально.
Мы поднимаемся в лифте, держась за руки, как малые дети.
Входим в ее квартиру (при чем она не подозревает, что я вошел сюда уже дважды за день; жаль, что это не река), обмениваемся необязательными фразами, совершаем бесцельные движения, делаем бессознательные жесты, и я чувствую, как становлюсь легче, прозрачнее, становлюсь чем-то средним между воздухом и музыкой, наверное, таково обычное состояние ангела небесного.Мы сидим при свечах и слушаем Малера (девятая симфония, блеск!). Конечно, мы могли поговорить о Верлене, Верхарне, Рильке, Рембо и Бодлере – о! Поэзия наша излюбленная тема в перерывах между любовью и любовью. Но сегодня у нас нет желания бродить по кладбищу слов и сравнений, мы просто сидим при свечах, потягивая из хрустальных бокалов терпкое вино магического пурпурного цвета, и слушаем Малера.
Впрочем, кроме музыки великого композитора мы прислушиваемся еще и к друг другу. Мы способны общаться мыслями, не высказанными вслух. Сначала чуть слышно пробиваясь сквозь мощные слои симфонизмов, затем все явственней пробивается ко мне внутренний голос Инги, вкрадчиво-обходительное сопрано, принимая на себя ведущую партию симфонии – удивительное дополнение, против которого не стал бы возражать, я думаю, сам автор.
– Ты сегодня неразговорчив. Ты что, мне не рад?
– Прости. Я всегда рад тебя видеть… И слышать. Даже не знаю, что мне приятнее. Такчудно на тебя смотреть. И обонять. И осязать.
– Я люблю, когда ты говоришь. Мне приятно тебя слушать. Не знаю лучшего собеседника, чем ты.
– Ты мне льстишь.
– Ни чуть… Был трудный день?
– Да очень насыщенный… умственной работой.
– Обманщик. Знаем мы вашу умственную работу. Скольких женщин ты сегодня осчастливил? Двух? Трех? Сотню другую?
– Не знаю, не считал, но по обывательским меркам достаточно, по меркам царя природы, готовящегося к прыжку, наверное, нет.
– Сколько же тебе достаточно женщин?
– О, я максималист. Меня устроят только все женщины мира.
– Ты не максималист. Тыпсихопат. Ты монстр.
– Согласен. Еще обожаю, когда меня называют тварью. Это слово пахнет адом, а наслаждение, как тебе известно, рожденоадскими силами.
– Не строй из себя философа-романтика. Тем более, что не способен понять такую простую вещь: что познать до конца одну женщину – значит познать всех женщин.
– Неплохая сентенция. Ничуть не хуже такой: познать всех женщин – не означает познать суть даже одной женщины. Дело не в знании, я давно смирился с непознаваемостью этого мира. У каждого из нас в голове свой блоу-ап, но кто умеет его разгадать? Все, что меня по-настоящему волнует – любовная гармония тел, познаваемая через личный опыт. В каждом случае я получаю различные результаты.
– По-моему, ты придумываешь их сам, витаешь в мире сексуальных иллюзий. Результаты, если и отличаются, то не намного. Анатомически – что ж поделать – все женщины одинаковы, у всех вдоль, а не поперек.
– Оригинальная мысль, хотя я и немного шокирован еегрубой объективностью, учитывая вашу деликатность, Инга Васильевна. Конечно, мы все рабы физиологии, но телесное в сексе, при всей его главенствующей роли, еще не все. Тело задает ритм, пульсацию, бит. Душа направляет мелодию. Фантазия плетет нескончаемую паутину гармоний. А сколько нюансов, сколько прозрачных воздушных арок неизвестного, непознанного происхождения! Пока я жив, я не могу отказаться от этого упоительного волшебства. Я трахаю, следовательно, я существую.
– Оригинальная мысль, хотя я и немного шокированаее циничностью, учитывая твою воспитанность.
– Лучше и правдивей не скажешь. Я раб женского оргазма, ничтожный в сравнении с ним. Помнишь у Лоуренса: мужчина, занимающийся сексом смешон. Конечно, ведь о его удовольствии и говорить-то нельзя без смеха. Я орудие женской услады и счастлив этим. Надеюсь, этим и отличаюсь от основной массы самцов, для которых все наоборот: женщина – аппарат для удовольствий, этакое самоходное влагалище.
– Ты сегодня циничен как никогда.
– Извини, я, действительно, немного утомлен… Возможно, ты права, я беру на себя слишком много.
– Ты не учитываешь главного: секс – занятие для двоих, и успех одинаково зависит от обоих. Ты просто чересчур возвеличиваешь свою роль. Неужели у тебя никогда не бывало срывов?
– Сколько угодно… Может быть, я, действительно, болен манией величия?
– Вот видишь! Давно пора успокоиться. Все, что можно, ты уже доказал. Лучшего любовника не сыщешь во всей округе.
– И в мире.
– Кроме мании величия, у тебя на лицо еще и синдром сверхчеловека.
– Кстати, я давно хотел попросить у тебя Ницше на денек. Хотя бы первый том.
– Брось свои шуточки. Ты знаешь, мне всегда было наплевать на то, что ты бабник. Но ведь пора и душе подумать, перешагнуть, в конце концов, через юношеские амбиции. Неужели ты сам не замечаешь, что беспорядочный секс разрушает тебя?
– Отнюдь! С каждой эякуляцией я поднимаюсь на одну ступеньку выше к Богу.
– Все-таки топливом для тебя служит собственное удовольствие.
– Конечно. Это справедливое вознаграждение за труды. Но ввиду его незначительности говорить о нем не будем. Божественность безумных криков кончающей женщины я ставлю гораздо выше собственного оргазма.
– Болтун.
– Тебе нравится меня слушать.
– Я хочу, чтобы ты не занимался саморазрушением.
– Ты хочешь того, чтобы я принадлежал только тебе. Чисто женское желание.
– Я не хочу быть одной из многих.
– Ты не одна из многих, ты – единственная.
– Как и все остальные твои любовницы, каждая из них тоже единственная. В своем роде.
– Ты все схватываешь налету. Каждая из тех, на кого пал мой выбор, – избранная. Высшее существо… Даже Пушкин, который не страдал, как известно, спермотоксикозом, и был избалован вниманием прекрасной половины человечества, мечтал попасть в женский монастырь или в острог, где сидят одни бабы. Город женщин – благословенный мужской миф.
– Ты не любишь меня… Ты никого не любишь.
– Добавь еще, что я эгоист проклятый, и мы сведем наш разговор к тривиальному семейному скандалу.
– Я предпочла бы свести наш разговор к добропорядочному семейному совокуплению.
– Совершенно неожиданное заявление из уст почитательницы Рембо.
– Я люблю тебя больше Рембо.
– Слышал бы это старина Артюр. Мне за него обидно… Можно ли ставить секс выше высокой поэзии?!
Разговор затухает, когда мои пальцы сами собой начинают расстегивать ее кофточку, проникают в чарующе тесное пространство чашечек бюстгальтера Ее груди, полновесные груди опытной женщины, доверчиво льнут к ладоням, как слепые щенки. Они трепещут и ждут любви. И я даю им любовь, всю, на какую способен. Даю со всем пылом и страстью узника барака N5 концлагеря Майданек. Но даже ничтожного мужского тепла достаточно истинной женщине, давно познавшей разницу между качеством и количеством.
Сквозь джунгли ее волос сначала смутно, потом все сильнее на меня накатываются колючие волны изумления. Исходят они от хрупкой фигурки, застывшей на пороге комнаты. Волны колют кожу лица, волны лижут руки, кружатся вокруг, меняя окраску, словно под непредсказуемыми лучами закатного морского солнца: изумление сменяется то омерзением, то восхищением, то диким любопытством.
Во мне пробуждается ответная волна, такая же смутная, неопределенная. Сначала это детское, почти забытое, смущение, потом вдруг безумный необъяснимый восторг, потом дурацкая гордость победителя, которому давно не оказывали настоящего сопротивления. Несколько мгновений я безнаказанно слежу за Вероникой. Но срабатывает девичий инстинкт (не думаю, что грубая физиологичность секса способна в короткий срок, после потери невинности, сломать тонкий строй девичьей души). Обожженная моей ответной волной, словно опасным для здоровья выбросом нейтронов, Вероника исчезает, просто-напросто тает в воздухе.
Мои губы, вышедшие из повиновения, как и все остальные органы, шепчут что-то про утренний туман. Инга прерывающимся шепотом переспрашивает. Но я не развиваю темы. За окном уже непроглядная ночь окраины большого города.
Из соседней комнаты до нас долетают звуки рояля. Музыка струится тонким ручейком, окутывая дрожащее от страсти тело Инги. Она не замечает. Она не слышит. Она отдается – нет, не мне – своему собственному телу, по которому от сосков до грудей растекается электричество предвкушаемого наслаждения. Я чувствую ладонями легкое покалывание от этого тока любви. Разность потенциалов страсти – ведь я остаюсь холоден. Я хочу одного – удержаться на ногах. Страсть покидает меня, отлетает как душа, сливается с тихими звуками музыки, окутывающими тело женщины. Страсть – сила – душа – сознание – кажется, из меня уходит все. Я теряю себя. Я хочу вспомнить, что это за музыка. Вспомнить, и ухватиться за край облака, так похожего на утренний туман.
Облако – я сам. Облако без штанов.
Как его ухватить, как удержать? Также как мы ловим диафрагмой вечно ускользающую музыку?
… Шопен? Григ? Бетховен? Что происходит? Я не знаю этой музыки. Не помню.
Музыка помнит меня. И этого, наверное, достаточно. Теперь моя очередь отдаваться, отдаваться музыке, как женщина отдается мужчине – доверчиво, безоглядно, до конца.
* * * Теперь мне снилось другое.
Открылась дверь и в мой дом вошла Смерть. Без косы и не в саване. Кажется, с зонтиком подмышкой. Изящная, еще гибкая, влекущая, как все необычное и экзотическое. В моей жизни была не одна женщина, были женщины самые разные по росту, весу, формам, возрасту, опыту, цвету, физическому и метафизическому строению, но в моей жизни не было Смерти. Ни разу я не познал женщины по имени Смерть.
Я захотел ее. Я попытался ее соблазнить, овладеть ею. Потому что сдерживать желание не в моих правилах.
Смерть усмехнулась и отказала мне. Не в ее правилах подчиняться чьим-то желаниям.
И все-таки напоследок Смерть дала мне понять, не вдаваясь в подробности, что при других обстоятельствах мы бы могли договориться.
Апрель, 1996г.
Екатеринбург.