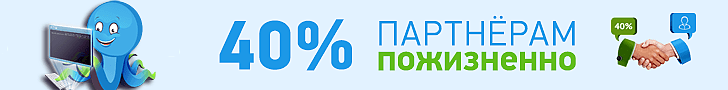В 13 лет я уже все знал о том, о чем не говорят учителя и родители. Учился я в хорошей школе, и «их» книжки и журналы всегда ходили по рукам. Проблемы прочитать их тоже не было. С одноклассниками мы вовсю обсуждали достоинства и недостатки перевода Кама Сутры и д-ра Кинси, смело судили об объеме груди и длине ног девушек из Плейбоя и Пентхауза, но вот опыта не было решительно никакого, с девчонками я даже не целовался и не обнимался толком. Только на школьных дискотеках немного. Не знал я до этого возраста и что такое пионерский лагерь. Но слышал об этом много хорошего именно в этом контексте, и считал, что родители это знают, и именнно поэтому меня туда не отправляют.
И вот в то лето надо было опять ехать к бабушке, но уже не отдыхать, а помогать, потому что и бабушка и дедушка вдруг стали плохи. И в прошлые годы я там не баклуши бил, по мере детских сил, так что особенно трудного ничего не было. Но папа и его братья и сестры взяли отпуска по очереди, чтобы не оставлять родителей, и меня младший дядя со своей женой быстренько «освободили» от внучьих обязанностей. Пошарившись еще немного, и не найдя никакого интересного занятия (никто из «приезжающих» друзей не приехал, местные все вдруг ударились работать комбайнерами, трактористами, пожарными и доярками), я послал предкам телеграмму, купил билет на поезд и был таков. Единственное, что успели сделать родители – взять путевку в самый обычный пионерский лагерь. Причем, не с начала смены, 3 или 4 дня пришлось пропустить. Я о таком варианте не смел даже думать, просто не предполагал, что это в принципе возможно. Я даже не стал ночевать дома, чуть-чуть обновил содержимое рюкзака, взял маленькую гармошку (отец у меня баянист, да и я кое-чему обучился), надел только что привезенный из деревни старый дядин картуз и в таком залихвацком виде на вечерней электричке отправился, с расчетом, чтобы успеть до отбоя. От предвкушения встречи с незнакомыми ровесниками и ровесницами, не обремененнми родительской заботой и опекой, сердце билось чаще, и штаны неудобно топорщились.
Я действительно, успел прийти перед самым отбоем. Воспитательница и вожатая представили меня всему отряду, показали палату и кровать. С парнями познакомились быстро, и я стал ждать, когда же «оно» начнется. По репликам своих новых товарищей я понял, что что-то намечается уже этой ночью. Мое удивление и разочарование было особенно велико, когда я узнал, что целью планируемой вылазки является лишь связывание шнурков девчонских кед и измазывание самих девчонок пастой. Тут я понял, что влип еще на месяц. Лучше бы в городе проторчал.
Следующие несколько дней, однако, не прошли для меня даром в плане продвижения к заветной цели. Из женской части отряда я мысленно выделил несколько человек, на кого можно обратить внимание, и начал думать, как заняться воплощением своей мечты индивидуально. С пацанами каши не сваришь, это сто пудов. Одна из намеченных была в то время заместителем командира отряда, такая ярая активисточка, которых по телевизору показывают и в «Пионерской правде» печатают. И ничего другого на уме. На других местах, все было, напротив, как надо.
Я не могу назвать ее по имени, ее имя принадлежит с тех пор только мне. Для вас она будет скрыта за простым личным местоимением третьего лица женского рода, но всегда с большой буквы.
Несмотря но свой возраст Она была уже совершенно сформировавшейся девушкой, мало чем отличаясь от, скажем, пионервожатой. Длинные стройные ноги, почти всегда одетые в брюки. На торжественные линейки только она ходила в юбке, по форме. Юбку эту, похоже, она носила года 2 подряд, и потому та была ей мала и едва доходила до середины ее ровных, пока еще не загорелых бедер, и не сходилась полностью, оставляя разрез, в который при ходьбе широким шагом было вино все. Парни все это замечали, я не один такой.
Что бы она ни надевала сверху, сразу было ясно, что у девчонки все в порядке и с животиком и с талией. Больше всего меня заводило то, что она совершенно не замечала, насколько она красива и нравится парням. В ее поведении не было ни тени кокетства, но и совершенно никакого стыда, боязни своего обаяния. Ей ничего не стоило завязать рубашку узлом над животом, вместо бюстгальтера, который так долго надевать утром, и в таком виде выступать перед публикой, заходить в пионерскую и к начальнице лагеря.
Отсюда я и начал, не зная, где предстоит кончать.
Надо сказать, что в своей школе я считался охламоном и разгильдяем, и с трудом получал четверки по труду, физ-ре и пению. Однако одноклассников в этом лагере не было, и я легко и вполне сошел за отличника, спортсмена и активиста (красавцем я никогда не был, и так и не стал все равно). Проявляя свое пионерское начало, я пытался таким образом как-то приглянуться Ей. Результата я достиг просто отличного. Отличного от всего, чего можно было ожидать: меня быстренько избрали командиром, вместо Сереги, который с удовольствием полностью переключился на руководство футбольной командой отряда. И именно эта победа стала решающей в моей битве за Ее сердце. Она ругалась с Серегой по всем пионерским и непионерским вопросам, как волчица, защищающая свое потомство, со мной же она просто краснела и отводила глаза, соглашаясь со всем, что я говорю. Я никак такого поведения не ожидал от бойкой, хорошенькой девчонки. По отношению к другим ее поведение нисколько, ну нисколечко не изменилось. Она по-прежнему не обращала на себя никакого внимания, пока рядом не появлялся я.
Надо сказать, что и служебные дела пошли у нашего отряда гораздо лучше. Мы и стенгазету сделали лучшую, и единственный отряд из лагеря сделали свою газету периодической, и конкурс инсценированной песни выиграли. (Я играл на гармошке, а она на гитаре, под балалайку). Все завертелось. Но поговорить с ней, даже когда было время, я все не решался. Нет, я никогда не был стеснительным мальчиком, но мне казалось, что все, что я буду говорить, будет обманом, потому что твердо и точно знал, чего хочу добиться.
Танцы у нас были по субботам, но в первую субботу она не пришла вообще. Я тоже сразу ушел и пошел ее искать. Она же сидела в пионерской, включив свет, и что-то чертила, встав коленками на стул, и низко склонившись над столом, так что в расстегнутый сверх обычной нормы воротник ковбойки было прекрасно видно все. А я спустился с крыльца, отошел за угол и тут же в ночи снял свое напряжение. Так получилось, что не делал я этого уже давно, и в этот раз у меня была эякуляция. Странно, но я сразу подумал, что надо будет предохраняться, когда у нас дело дойдет до дела.
Еще пару дней я вел работу в мужских массах своего отряда по половому просвещению. План мой состоял в том, чтобы в игре «в бутылочку» или «кис-кис» (а ничем другим, по моим предсавлениям, а пионерлагерях не занимались) выманить свою улиточку из ее раковины.
Девчонки, конечно, поломались денек, но на следующую ночь турнир по «кис-кис» был в самом разгаре. Более зрелые, девчонки, естественно, обзывались козявками и намекали на то, что у них опыт по целовальной части – дальше некуда, парни ржали (насколько это возможно ночью напротив комнаты вожатой), и хамили, но со скрипом, шутками и прибаутками под моим руководством, все целовались и понемногу некоторые даже раздевались. Она в ту ночь спала, отвернувшись к стенке, но я не мог оставить это мероприятия, ибо держалось оно только на мне.
Мне очень хотелось узнать, что она думает по этому поводу, но в тот день поговорить нам не удалось. Я ходил в соседние лагеря договариваться о проведении чемпионата поселка по футболу. Попутно договаривались с лагерем, что у самой речки о совместном проведении дня Нептуна. С ней так и не увиделись толком.
Следующей ночью народ уже играл по своим правилам, назначил дополнительные места для целования, в общем, веселье было на славу. Я подошел тихонечко к ее кровати, позвать поиграть, но услышал, что она тихонько плачет. Дурак, сразу не догадался почему, и как заору:
– Девчонки, Она …. Слово «плачет» я сказать не успел, потому, что Она со всей силы двинула меня кулаком по ноге. Еще секунду я соображал, девки завизжали:
– Что, умерла? (Небось, дуры, страшные истории травили).
– Нет, – говорю, – наоборот, дерется! – и ничуть не притворяясь, держусь за ушибленное бедро.
На крик прибежали воспитательница и вожатая, стали нас разгонять, вожатая лично повинтила меня у Ее кровати, держащимся за ногу. Все было просто и очевидно, пришли, как обычно мазать пастой, но девчонки дали достойный отпор. Но вожатая именно на меня посмотрела как-то недобро.
Орг. выводов из этого приключения делать не стали, и пацаны продолжали ходить «к бабам».
Но Ее отношение ко мне переменилось, скорее всего, оно переменилось днем раньше, и тогда еще можно было все исправить, но все уже было безнадежно. При мне она больше не краснела и смущалась, оспаривала буквально каждое мое слово, нарочно вызывающе себя вела и прилюдно посылала мне воздушные поцелуи, так аппетитно чмокая, что иначе как оскорбление воспринято быть не могло. Всячески показывала, мол, ты – кобель, вот и смотри на мои сиськи и слушай мои поцелуи, раз тебе только этого и надо. Я понял, я все понял. Понял, что я обидел девушку в лучших ее чувствах, понял, что потерял ее навсегда, и знал, что ни с кем не могу это начать снова в этом лагере. Ну, есть у меня кое-какие принципы все-таки.
Парни стебались помаленьку, и только умненькая пионервожатая все организовывала собрания совета отряда, оставляя нас двоих после собрания, пытаясь нас помирить, и в основном, как я сейчас понимаю, на нас посмотреть и изучить, как кроликов подопытных.
Надя (пионервожатая) все раскручивала нас на задушевные беседы, рассказы о детстве и т. п., и я довольно убедительно выдавал себя за сельского жителя. Очень обстоятельно и хозяйственно судил о сортах помидоров, расценках на прополку, уборку, зарплатах механизаторов и бригадиров. Приятно было что девушки (Надя по сути тоже еще была девчонкой лет 20 максимум) на мое происхождение реагировали нормально, не в пренебрежением и не с любопытством Левенгука к бактериям.
Надя ничего, вроде и не делала, но Ее неприязнь ко мне прошла, а я увидел, что она классная девчонка, невероятно хорошо воспитанная, и из очень хорошей семьи (например, знакомые ее дедушки, это люди про которых я читал только в книжках.А может, и про дедушку в как-нибудь из книжек тоже написано). Мне стало еще стыднее за себя, и я трусливо все глубже скрывался под маской дикаря.
Вот, однажды, возвращаясь вдвоем в отряд с совета дружины, затянувшегося почти до полуночи, и довольные тем, что всех победили и убедили, разговаривали устало и непринужденно. Я выдал ей тщательно подготовленный рассказ о ночных играх. Мол, в этом нет ничего личного, мне это на фиг не надо, что, мол, некуда было приложить свои организаторские способности и попробовал свои силы как в качестве лидера, так и антилидера. Она улыбаясь сказала, что все это знает, что Надя ей про меня все рассказала.
– И что же она рассказала? – спрашиваю.
– А все!
Умная Надя могла рассказать слишком много, и я вдруг слышу свой голос из своей глотки:
– А она говорила, что я безумно люблю тебя?
Она шла в тот момент передо мной, остановилась, в стройной спине под тонким свитером появилась какая-то неуверенность, обернулась. Глаза опять опущены, румянец, все как раньше. До меня дошло, что я такое сказал, и руки-ноги тоже как не свои стали.
– Нет, – отвечает, и так и стоит столбом. Я называю ее ласковым именем и повторяю:
– Так вот, я очень-очень тебя люблю.
А в ответ тишина. Как стояла столбом, так и стоит. А я весь ушел в слова, о руках-ногах-и-всякой-прочей-фигне вообще забыл. Так и стоим. И без всякого желания, просто вспомнив, что надо, я взял ее за плечи. И тут как будто пружина в ней распрямилась, закрученная за всю жизнь, и снятая с предохранителя минуту назад. Она подалась мне навстречу всеми своими эрогенными зонами сразу. И нежными губами, и закрытыми глазами, и тонкой шеей, и упругой грудью, и стройными бедрами и всем, что есть на свете. Наверно, я сделал то же самое, и мы столкнулись на полпути друг к другу, прямо посередине главной аллеи и стали обниматься и целоваться.
Ни с кем и никогда больше в жизни я не целовался так искренне самозабвенно. Я к чертовой матери забыл и Кама-Сутру, и д-ра Кинси, и Плейбой, и Куприна, и Набокова и все что я так тщательно изучал специально для этого случая. Просто я целовал ее лицо, и она подставляла мне его. Я гладил ее грудь, и она прижималась ею к моей руке еще крепче. У меня встал, и она помогла ему, застрявшему в джинсах, и прижалась своим животом к моему, а я положил руку ей на ягодицы и прижал всю ее к себе со всей силы, а она тихонько пискнула и окончательно растаяла. Мы покачнулись, пролетели к краю аллеи и свалились на землю, я только успел отвернуть от кустов. Она оказалась на мне, я поднял ей свитер и прижался лицом к ее животу, руками схватив голую грудь (по обыкновению она была без лифчика). Может быть, у нас все получилось бы и в тот раз, если бы не вожатая соседнего отряда, почти прямо под окнами которого мы и завалились. Черт ее куда-то понес посреди ночи. Мы услышали отдвигающийся засов, увидели, как включили свет, быстренько вскочили и выбежали на аллею. И тут же натолкнулись на эту вожатую. Она испугалась, но узнала нас. И увидев запыхавшиеся наши лица, решила, что мы со всех ног бежим в отряд. Еще и говорит: – Бегите, бегите, ребята. Поздно уже! – вот дура! Дошли до отряда, постучались. Надя вышла нам открывать, и мы не отказали себе в удовольствии поцеловаться, пока она возится с засовом. Ей было очень интересно, что же было на собрании, и позвала нас к себе. Я, боясь за себя, сел по другую сторону стола от Нее. Мы с жаром вместе рассказывали о своем успехе, перебивая друг друга, не обижались, и Надя должна была быть довольной своей работой.
Наши уединенные встречи с Ней продолжались. Мы обнималась и целовались везде, где нас никто не видел. Однако «это» как-то сразу вышло из планов. Она стала отстраняться, когда я опускал свои руки слишком низко, больше не прижималась ко мне всем животом, хотя против ласок груди она ничего не имела.
На работу времени стало не хватать, да и желания особого работать не стало. Однако, как люди ответственные, мы должны были делать свое дело, и нам приходилось сидеть на веранде до полуночи, до часу, а порой и до двух. Обычно оставался я один, потому, что вдвоем – не работа. Я не мог ни о чем думать и что-либо делать в ее присутствии. Наклонится она над столом – и я не вижу ничего, кроме того, что за расстегнутыми верхними пуговицами отвисающей рубашки. Встанет коленками на стул – и ее кругленькие ягодицы плотно обтянутые брюками или шортами заполняют все мое сознание. Сядет рядом – руки не могу удержать при себе, и те, предательницы, сами тянутся к ее непередаваемо красивым бедрам. Сядет напротив – не могу оторвать взгляда от ее милого лица, длинных ресниц и плотных губ, которые бывают такими нежными и страстными. В общем, довольно скоро стало тяжело вставать по утрам. Сначала я закосил специальную (кстати, мной же и организованную) зарядку с 3 км кроссом за территорией лагеря. Потом не встал и на основную зарядку. Надя видела, как мы работаем, и эти выходки стерпела.
Но когда однажды было пора уже выходить на линейку, а мы с ней еще спали (в смысле Она и я спали в то утро каждый в своей палате), Надино терпенье лопнуло. Она стала стаскивать с меня одеяло (никогда раньше она так мальчишек не будила), орать, какие мы с Ней гады, что девочка за нас уже в пионерскую сбегала за флагом, и все такое. Я вскочил, злой спросонья как черт и взял ее в захват, и одновременно правую кисть на болевой. Она завизжала так смешно, что перестала быть вожатой, а стала просто девчонкой, на 4-5 лет всего старше меня. Она попыталась вывернуться отчего только плотнее прижалась ко мне. А я стою в одних трусах, выше нее ростом, и держу ее в полной своей власти. Тут то у меня все проснулось, и по-юношески мгновенно и сильно. Увидеть я ей этого не дал, так как быстро отвернулся и стал надевать шорты, рубашку и галстук. После линейки я как псих просил у Нади прощения, и она мне его охотно дала, наверно, считая и себя отчасти виноватой.
Весь день я ходил как заведенный думая, как Это сделать с Надей, и терзаемый сомнением, по поводу того, насколько это будет нечестно по отношению к Ней. Гениталии в тот день явно перевешивали голову. Вечером был очередной матч местного футбольного чемпионата, и наши играли «на выезде». Я не пошел, что никого не удивило и не обидело. Я и Она не придавались популярным развлечениям типа пляжа (загорать все равно не дают, купаться по свистку) и кино. У нас было и работы всегда полно, а в последнее время и другие интересы появились. Но Она должна была идти, потому что была капитаном команды болельщиц. Девчонки нашего и другого старшего отряда надели нашу лагерную форму волейбольной сборной – обтягивающие белые футболочки с эмблемой лагеря и обтягивающие же красные атласные трусики. Тогда у нас еще никто, даже среди воспитателей, не знал, что в Штатах это давно придумано. У нас эту идею восприняли хорошо, и это должно было стать первым выступлением команды болельщиц. Отчасти мое желание не ходить на матч было вызвано и Ее участием. Мне не хотелось смотреть на нее в облегающем костюмчике наравне со всеми. Не было ни малейшего желания слушать, как пацаны будут обсуждать ее сиськи и жопу и строить несбыточные предположения на свой с ней счет. Всем сказал, что буду читать газеты, наш редактор уже давно тряс с меня обзор международных событий. Я же за «Зарницей» и кружком бальных танцев света белого не видел. Взял у начальницы подшивки и пошел в отряд. Постучался к Наде, и попросил помочь разобраться. Она знала, что я и сам справлюсь, но согласилась помочь, думая, что я пытаюсь найти большего примирения. Мы сели за стол рядышком, склонившись над газетами. Стали о чем-то говорить, но через некоторое время я перестал понимать происходящее и только запах ее волос остался из окружающего меня мира. Я отклонился на спинку стула и стал смотреть на ее спину, шею, кудрявые темно-каштановые волосы и уши с дырочками, но без сережек. Она обернулась ко мне, ожидая, очевидно, ответа на заданный вопрос. Я не стал переспрашивать, а наклонился к ней и обнял ее со спины, взявшись за грудь. Она не испугалась, не вздрогнула, не запищала. Все с такой же непринужденной улыбкой спросила:
– А ты уверен?
Сейчас я гораздо старше той Нади, но все равно каждый раз, когда вспоминаю этот случай, нахожу все больше смыслов в этой простой и на первый взгляд банальной фразе.
Я был уверен.
Это не было той сумасшедшей бурей эмоций, как у нас было с Ней на аллее. Никто никуда не бросался, не падал и сознания не терял. Она повернулась ко мне лицом, освободив таким образом, свою грудь, и стала гладить меня через рубашку. Я снова взялся за ее грудь, на этот раз обеими руками, и понял, что она в лифчике. Я много слышал анекдотов и рассказов пацанов о всяких случаях с лифчиками, и я в свое время довольно скрупулезно изучил мамин бельевой ящик. Я не был уверен только, что справлюсь на ощупь. Я расстегнул ей одну пуговку, и она тут же расстегнула одну мою, и стала гладить мою шею и грудь напрямую, не через рубашку. Это оказалось намного приятнее, и я вздохнул поглубже в знак одобрения. Я не знал, что делать с ее пионерским галстуком, который она почему то не сняла, но игра в пуговки увлекла меня и я не стал пока думать о галстуке. Тем более что впереди еще был лифчик. Так пуговка за пуговкой мы почти одновременно добрались до ее юбки и моих джинсов. Правила ее игры были простыми: я делаю что-то первым, а она повторяет. Я должен был начать следующий кон. Я вдруг вспомнил, что мы еще не разу не поцеловались. Это было не по науке, и я потянулся губами к ее лицу. Она тихонько, но убедительно увернулась, подставив взамен свою шею. Рубашка ее была полностью расстегнута, и шея доступна для поцелуев, но на ней все еще был пионерский галстук. Попытался снять с нее этот дурацкий галстук, но левой рукой у меня не получалось, а когда я попробовал освободить правую, занятую поглаживанием ее живота, она схватила мою руку и положила ее на место. Едва я возобновил свои попытки развязать в принципе нетугой пионерский узел, как она засмеялась тихонечко и со всей силы затянула галстук у себя на шее. Пришлось вытаскивать воротник из-под галстука. Мы сидели у стола почти у самого окна, и кто-нибудь высокий или находящийся на достаточно большом расстоянии мог видеть все.Шторы у Нади были подняты и занавески открыты, мы ведь с газеты читали. Тут под самым окном раздались совсем детские голоса. Наверно, какие то октябрята из младших отрядов сбежали поиграть на запретной для них территории. У самого окна стояла кровать, и Надя подошла к ней, на нее встала на колени и дернула шнурок, опускающий плотную штору. Мне была видна ее спина, лямка от лифчика, отставленная попа в белой юбочке и ножки в теннисных тапочках. Ждать ее возвращения к столу было совершенно бессмысленно. Тут стало темно, и я только слышал, как она слезает с кровати. На ощупь я включил настольную лампу и пошел ей навстречу. Она пыталась дотянуться до лампы и выключить ее, но я не дал, повалив ее на кровать. Лифчик у Нади расстегивался спереди, и конструкция замочка оказалась мне знакомой, но что-то его заело, и я стал нервничать. Надя восхитилась моим умением, и попросила не рвать лифчик, потому что он импортный и ее любимый. Вот крючок свободен, половинки лифчика откинуты в стороны и я в очередной раз застыл в нерешительности, выбирая, что же делать дальше. Тут уже Надя сама положила свою руку мне на затылок и наклонила голову к своей груди. Она, наверно, хотела, чтобы я сразу стал целовать ее соски, но я ткнулся носом между ее маленьких упругих грудей и стал дышать ее запахом, ее духами и потом. Руки же мои заняты были ее грудью, шеей, плечами. Я теребил ее соски пальцами и перекатывал упругую плоть в своих ладонях. Я гладил ее шею и щекотал за ушами, я нежно поддерживал драгоценный груз ее груди с боков, касаясь одновременно внутренней стороны ее рук. Потом я дышал ее подмышками, шеей и волосами, исцеловал ее всю от макушки до так и не расстегнутой пока юбки. Мне совершенно не хотелось ее губ, после первой попытки я даже не пытался к ним приблизиться, тем более, что ее губы тоже все время были заняты делом. Игра не прекращалась ни на секунду. Ни один мой поцелуй не оставался без ответа. Она гладила мне грудь и спину, целовала и покусывала мои соски и кожу под подбородком, тихонечко щекотала руки и туловище.
Все это время я сидел верхом на ее бедрах, и когда перенес поцелуи и ласки совсем низко, мне пришлось сдвинуться на ее голени, чтобы спокойно заняться юбкой. У Нади были другие идеи по поводу последовательности ласки, и она сразу раздвинула свои ноги, согнув их в коленях. Ее ноги оказались на уровне моей головы, в прямой досягаемости губ и носа и я припал именно к ним. Я забыл обо всем, что читал и что слышал. Все для меня слилось в букет запахов, ее, Надиных запахов. Здесь рядом были ее ножки в белых носочках и плотно зашнурованных теннисных тапочках, и я вдохнул и этого ее запаха. Одним движением я снял с нее оба тапка, и потом мы с ней вместе сняли по одному ее носку. Игра на время прервалась, она смотрела на меня с интересом, и как мне показалось, с удивлением. Ей было явно любопытно, что я буду делать дальше. Я вдохнул запах ее ступней и лодыжек и тихонечко касаясь только волосков провел ладонями по ее голеням. Потом стал целовать и покусывать ее пяточки. Они были такого маленького размера, какой я носил во 2 или 3 классе. Мне вдруг показалось, что это я старшее ее на 4 или 5 лет, и проникся к ней каким то странным чувством ответственности, что ли, и немного жалости. Насладившись ее маленькими ножками, я упер их в свою шею спереди и стал снова приближаться к заветной юбке. Мне было приятно, что эти две маленькие ножки у меня здесь, под подбородком, и что ими по прежнему можно дышать. Чтобы я смог дотянуться до пояса Наде пришлось согнуть свои ноги и развести колени. Под юбкой я увидел обычные белые х/б трусики без всяких кружавчиков, такие маленькие девочки носят. Что-то притягивало меня к этим беленьким трусикам, отчего-то хотелось бросить все и уткнуться в них лицом, дышать, есть, и пить из них, всю свою жизнь посвятить именно этим маленьким трусикам. Но юбка звала в бой, и я пролетел мимо трусиков и снова оказался у Надиного живота. Пока я там внизу развлекался, животик покрылся крошечными капельками пота. Я увидел каждую из них, когда приблизился почти вплотную. Любуясь этой картиной (жанр даже не подобрать. Больше всего это похоже на пейзаж), я наконец приступил к расстегиванию юбки. Несмотря на то, что я уже видел, что там меня ждет, мне казалось очень важным освободиться и от этой оболочки. Надя снова вступила в игру и попыталась дотянуться до моего ремня. У бедняжки в такой раскорячке мало что получилось. Но убирать ноги с моего горла она не хотела, наверно, думала, что мне это очень важно. Я оценил эту заботу и слегка погладив одну ножку, снял с себя и отпустил. Вторую она все равно оставила. Тогда я просто погладил и эту ножку. В конце концов, мне было бы просто не снять юбку, когда у нее ноги в стороны. Она, умница, все поняла и послушно вытянулась подо мной. Я снова верхом сидел на ее бедрах, и мы потихонечку раздевали друг друга. Я закончил расстегивать раньше ее, и ждал, пока она все расстегнет. По счету, отмеренному легоньким качанием на кровати мы сдернули друг с друга наши одежды. Вид самого таинственного, самого прекрасного места женского тела, прикрытого тонким-тонким слоем белоснежной ткани меня заворожил, я смотрел как загипнотизированный на это зрелище и поначалу даже не заметил на этой ткани большое мокрое пятно. Я вспомнил, что это значит, и что из этого следует и где то далеко в голове отметил прохождение еще одного контрольного пункта.
Не знаю ничего о предыдущем Надином опыте, но и она не без любопытства смотрела на свою картину. Из моих модных, тоже белых трусов, не помещаясь в них, торчала головка моего обрезанного (я не иудей и не мусульманин, но так получилось) члена. Так мы любовались открывшимися видами, и Надя, приподнявшись, лизнула меня в самую дырочку. Мне показалось, что все, кончаю. Я увернулся и стал окончательно снимать с нее юбку, по правилам игры она должна была снять с меня штаны. Я опять справился быстро, а ей еще мешали мои кеды. Она стала наклоняться вниз всем телом, наверно, чтобы отплатить мне той же монетой за снятые с нее тапочки и носочки, но я быстрее нее дотянулся до шнурков и вместе с носками скинул кеды. Иллюзий по поводу ароматов МОИХ ног у меня не было.
И вот мы в последнем перед штурмом базовом лагере. Вдвоем, в одной связке, одинаково экипированные и одинаково рвущиеся к вершине. Я все хотел как-нибудь спросить, как нам предохраняться, но не хотелось портить нашу идиллию словами, тем более столь грубыми и утилитарными. Отложив решение этого вопроса до начала последнего броска, я стал поглаживать ее под резинкой трусиков, с каждым разом открывая все больше и больше. Когда показались уже густые курчавые волосики, Надя сказала первую фразу после моей «Да, уверен»:
– Погаси свет.
– Не погашу.
– Я стесняюсь… Я никогда не делала этого при свете.
– А ты много это делала? – задал я очень важный для меня вопрос.
– А ты?
– Вот, надеюсь, что будет первый раз.
– Тогда я больше, – рассмеявшись сказала она. – Но все равно, погаси, пожалуйста, свет.
– Я бы погасил, но не могу. Не могу напустить темноту на такую красоту. Не могу допустить, чтобы тьма ночи легла на эти темные вершины холмов, на эту долину, начинающуюся между ними и уходящую в темные леса в пьянящей и манящей впадине. Не могу поверить, что не увижу ресниц твоих закрытых глаз, и красного галстука на нежной белой шее.
Ее собственная шутка с галстуком ее рассмешила, и окончательно примирила с включенной лампой. Она тоже стала сантиметр за сантиметром снимать с меня трусы. Я пока гладил ее лобок и даже прикасался к половым губам, но все еще пока не снимая полностью трусов. Она ждала действий, а я ждал, пока она сравняет счет в нашей игре, недовольно покачивая своим членом, требуя для него большей свободы. Когда я посчитал, что счет вновь выровнен, я приподнял ее ягодицы над кроватью одной рукой, а другой резко сдернул трусы сразу до колен. Кое-как мы с ней вместе выпутали одну ее ногу из трусов, и они так и остались висеть никому уже ненужным белым флагом не другой ноге. Она тоже приспустила мои трусы, но меня это уже не интересовало. Я был уже ТАМ. Я был там весь, всем своим существом, собранным на кончике языка, в носу, на губах и щеках. Я лизал и целовал ее тайную ложбину, сосал и прикусывал тихонечко своими губами ту маленькую складочку, одним осознанием существования которой можно наслаждаться бесконечно. Я терся щеками о ее волосики на лобке и бедрах и вдыхал истинный, неподдельный, самый настоящий аромат Женщины.
Не могу сказать, кончила она в этот раз или нет, но залито было все. Мокрым было все мое лицо, все ее бедра и живот. Я уже не говорю о постели. Одним словом вдруг она вдруг всем своим телом позвала меня наверх, и едва я только чуточку приподнялся, она нащупала мой член и стала его ласкать.
– Не надо, – говорю.
– Почему?
– Я сейчас кончу.
– Так это хорошо.
– Я хочу по-настоящему.
– Еще успеешь!
– Нет. Пусти!
Но она не пустила, стала приближать его к себе туда. Я тихонько начал:
– А как мы будем …
– Ого! Ты и об этом подумал?
– Да, подумал. Так как?
– Не знаю, – но сказано это было довольно ехидно и с вызовом. Типа, «Раз ты уже такой большой, ты и думай». Потом вдруг уточнила,
– А у тебя, что, уже …
– Уже, уже! У тебя когда были …
– Ах ты умница!
И с этими словами подвела его к самому входу в святая святых, и отпустила. Я был возбужден до крайности, и мог кончить в любую секунду.
– Ну, тогда держись, я пошел! – И я начал. Это было ни с чем не сравнимое ощущение, когда весь член окутан гладкой, нежной и пульсирующей оболочкой. Совершенно не то, что дурацкие дерганья, известные каждому подростку. Я отклонился назад, думая что будет видно, где внутри нее он сейчас. Я ничего, конечно, не увидел, но Наде это очень понравилось, и она вся аж выгнулась. Я вспомнил, что во многие позы входит подушка под поясницу или под таз. Я взял одну (вожатым, оказывается, давали по 2) и положил ей под спину, чтобы не стоять на «мостике». Она в ответ согнула ноги так, что стала бить меня по ягодицам и пояснице с удобным ей ритмом. Я опирался одной рукой на кровать, а другой снова стал поглаживать ее клитор.Но Надя положила обе моих руки себе на грудь, а поскольку на руки я довольно сильно опирался, получилось что я всем своим весом прижал ее грудь, а своим клитором она занялась сама. Сначала я двигался медленно, получая первое удовольствие когда головка была у самого входа, где она так приятно сжимала ее, и второе когда своим лобком налегал на ее лобок. И отдельным наслаждением было натыкаться на ее маленькие легонькие пяточки. Я был прав, уже после первых нескольких фрикций я понял, что все. Не в силах больше сдерживаться, я залез к ней в самую глубину и кончил бы там, но Надя недовольно застонала и стала бить меня своими пятками, требуя продолжения. Я ценой страшных усилий вернулся к входу, и она сжала его, наверно, со всей силы. Я еще пару раз вошел вышел через эти сладостно закрытые ворота, но больше поделать ничего не мог, даже ее пяточки не смогли вывести из столбняка впервые переживаемого наслаждения женщиной. Едва пик прошел, я увидел ее сведенное от напряжения лицо, и опять мне стало жалко свою пионервожатую, как стало бы жалко маленькую девочку, которой в детском саду не хватило конфетки, когда давали всем, и хотя у меня все уже болело, я снова начал быстрые движения у входа, а она со звериным остервенением набросилась на свой клитор, сжала ноги, и все, что можно сжать в этом месте. Ноги пришлось развести мне и снова сесть на нее верхом. Опять-таки, теоретически я знал, что женский оргазм более длительный, чем мужской, в чем он выражается не смог написать никто, не знаю я и до сих пор. Я бросил раздумывать, и сал делать то, чего она просит. У меня уже начал опадать, и надо было успеть. Он бы наверно, опал совсем, но Надя вдруг снова стала целовать мне соски и гладить по спине. Почти сразу все встало на свои места, и спустя еще некоторое время, когда Надя уже просто открыто стонала и подмахивала как «Кировец» на сельской дороге, я почувствовал, что могу кончить снова. Тут я уже просто упал на нее, все наши взаимные ласки прекратились, вся жизнь сконцентрировалась меж двух лобков. Надя отстонала, отдергалась и легла пластом, раскинув ноги и руки. Я испугался, не плохо ли ей, остановился и позвал:
– Наденька! Надюша! – труп. – Ты жива? – Улыбка, глаза открываются. – Тогда потерпи еще немного.
Надя беззвучно смеется. Я начинаю с бешеной скоростью и силой свои движения. Хлюпанье раздается, как будто стадо бегемотов ломится через болото к кормушке. Мне уже самому смешно, но чувствую, что оргазма в этот раз не достичь, у нее там все настолько мокрое, и все так расслабилось, что эффекта нет никакого. Ну не в ручную же доводить! Я попытался отклонится как мы делали вначале, но стало просто больно. Но зато я увидел снова ее грудь, и мне показалось что я ее еще не полностью использовал, что-то она зря тут так просто лежит, и я снова опустился и налег не нее всем телом, и даже обхватил руками за спину, чтобы прижать ее молочную грудь к моей костлявой, восстановить мировое равновесие грудей в природе. Она сдавленно охнула, подалась вперед, еще сильнее задирая ноги, и я наконец нашел там в глубине то, что еще может принести удовольствие.
Я читал что-то и про маточный оргазм и, надо сказать, испугался. Если это опять так надолго, меня уже ни на что не хватит. Надя начала шевелиться сама, но только все испортила, я успокоил ее и сказал, чтобы не шевелилась, все сделаю сам, и продолжил свои изыскания в глубине тайных пещер. Совсем не шевелиться она все-таки не могла, но именно по ее движениям я понял, что она собирается кончать еще раз. На этот раз она кончила раньше. Почувствовав, себя чужим на ее празднике жизни, я с сожалением подумал, что придется-таки доводить вручную, как снова вспомнил про грудь, которая после оргазма как будто никому не нужна. Я вышел, лег им ей на грудь, сжал ее груди вместе своими руками и стал тереть ими мокрую и скользкую головку. Надя посмотрела на это откровенно изумленно, но потом положила свои руки на мои и стала подставлять грудь сама. Это мне еще больше понравилось, и я оставил грудь в ее распоряжение, оставив себе только соски. Я их сжимал и оттягивал, а она своей грудью терла мой член. Я хотел кончить ей на грудь, а потом растереть руками, но получилось по-другому. Когда уже перед самым оргазмом я стал двигаться сильнее, она не удержала член между грудей, он вырвался, и первая струйка попала ей в лицо. Она инстинктивно зажмурилась, мне показалось, что брезгливо, и я хотел прижаться им обратно к груди или животу, но Надя набросилась на него и сразу проглотила целиком. Я кончал в самую глотку, а она еще своим кулаком нажала мне в пах, между яичками и задним проходом. Она держала член во рту пока оргазм полностью не прошел. Я и не знал, что она все это время не дышала! Но когда Надя упала на подушку и откашлявшись стала дышать как загнанная лошадь мне опять стало стыдно за себя. Я лег рядышком, стал гладить ее по голове и успокаивать. Дал ей воды из ее графина, который стоял на тумбочке рядом с кроватью. Она жадно выпила. Я выпил 2 стакана. Очень не хотелось вставать, но вот-вот должны был вернутся отряд с футбола. Надя встала первой и стала одеваться. Надо только хорошенечко себе представить картину: ты, у которого только неделю назад первый раз пошла сперма, сидишь на кровати своего непосредственного начальника, и смотришь как он голый, этой самой твоей спермой перемазанный и ее же наглотавшийся, бегает в одном помятом пионерском галстуке и ищет свои шмотки! Я вполне осознал прикол ситуации и тихо оттягивался. Сначала она взяла полотенце и вытерлась им. Я хотел было сказать «И я хочу», но не стал, предвидя, что самое интересное впереди. Она вытерла себе и между ног, смешно приседая и разводя коленки в стороны, потом достала из шкафчика чистые трусики (я опять удивился, какое у нее все маленькое), на этот раз светло-голубого цвета, и надела их, смешно покручивая попой и звучно щелкнув резинкой. Они и не думала стесняться меня, и я наслаждался этой живостью и непосредственностью. Она стала оглядываться вокруг кровати, и я понял, что она ищет лифчик. Он был на кровати рядом со мной, и я из мальчишеского озорства спрятал его в складках одеяла. Она посмотрела на кровать, но увидев, что на ней творится и поверх всего этого бардака меня в своей первозданной наготе, сказала только:
– Одевайся скорее, – и поспешно отвернулась.
Новый лифчик она достала из чемодана, и стала надевать его, пытаясь застегнуть сзади.
– А во французском, твоем любимом, не удобнее будет? – спросил я, держа утерянный лифчик за застежку на вытянутой руке.
– Дай сюда!
– 33 поцелуя принцессы!
– Ох, и не стыдно, чужое белье таскать?
Я ей ответил, что страсть к вещам, и, как правило, нижнему белью партнера называется фетишизмом, и что большинство современных как буржуазных, так и прогрессивных психологов не считает это явление половым извращением, и что в связи с вышесказанным стыда за содеянное я не чувствую.
Она стала в ответ говорить о территориально-темпоральной адекватности психического бехейвиоризма индивида, расхаживая при этом по своей каморке, взад-вперед как учитель у доски, все приближаясь к висящему в моей руке ее лифчику. Я понял, что она собирается сделать, и вовремя отдернул руку.
– Ну, отдай же! – наверно, непросто достался ей этот кусочек тряпочки из Франции.
– ОК. Только я сам надену.
– Давай скорее.
Скорее у нас не получилось. Потому что мы с Наденькой сначала надевали лямочку на спинку (чмок в спинку), потом надели бретелечку на левое плечико (нежно целуется левое плечико), потом на правое ( – >> – правое – >> – ), потом левую чашечку надеваем на … не надо дергаться, так только дольше будет, … левую грудку (засасывается полгруди, и напоследок еще легонько прикусывается сосок), а правую – на правую. А вот здесь мы застегнем замочек. Как долго мы его расстегивали, так долго и будем целовать. Та-ак … Готово! Следующий!
Следующий в мгновение ока вскакивает в свои трусы, штаны, кеды и рубашку и успевает досмотреть, как Наденька надевает сарафан, и помочь Наденьке надеть босоножки (Чтобы каждому пальчику было удобно в босоножках, его надо сначала поцеловать. А ты не знала?!).
Скорей на свежий воздух! А те кто неудачно шутят с атрибутами Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина остаются развязывать атрибуты, поднимать шторы и заправлять кровать. К борьбе за дело будьте, Наденька, готовы.
С ворохом газет мы устроились в беседке, я взял свой знаменитый уже на весь лагерь «блокнотик» (амбарная книга в жестком переплете листов на 300), и стал там рисовать чертей. Было совершенно не до газет, а Надя сидела напротив и говорила, что из всех известных ей мужчин, их число я так и не узнал, я по ее словам был самым-самым. И почему я все знаю, и все умею, хотя говорю, что никогда до этого женщин не знал. Я сказал, что у нас на завалинке старики и не такому научат, что мол деревня это не город, народ простой и к природе близкий.
– Тяжело тебе будет с Ней.
Я не ожидал такого перехода.
– Это почему?
– Не такой она человек.
– Какой не такой?
– Не такой как ты.
– А какой, по-твоему, я.
– Не такой, какой ей нужен. Вам не ужиться вместе никак.
– О совместной жизни мы пока не думали, но быть вдвоем нам очень нравится.
– Вон уже наши идут. Кажется, со щитом.
Наша беседа была прервана громкими криками и звуками горна.
Это бежали младшие пионеры. Они не побежали по аллее, а сразу свернули к своему отряду. Я просто крикнул.
– Эй! – издалека мне было не разглядеть лиц.
– 4:1! – словно ни о чем другом речь идти не могла, ответили пацаны.
Тем временем приближалась середина смены, так называемый экватор, с днем Нептуна и родительским днем. С одной стороны мне очень хотелось, чтобы родители посмотрели на мое творение. Я имею в виду новые лагерные порядки. Я мучился этим вопросом достаточно долго, чтобы стало невозможно сообщить родителям свое мнение письмом. Но за два дня до родительского дня и, соответственно, накануне дня Нептуна я пошел на почту и купил талончик. Звоню домой. Отец говорит, что они с мамой очень хотят повидаться, но именно в эти выходные им это будет сделать непросто. В переводе с папиного это означает, что даже если небо будет падать на землю, он никаким образом не сможет навестить своего сына.Я для вида посожалел, поуговаривал, твердо зная, что ничего не изменится, и пригласил приезжать в любой другой день после обеда. С утра мне, признаться, тоже не до посетителей. Мама сказала, что напишет о своем приезде. В те времена письма ходили в область за 1, максимум 2 дня. Значит папа крепко занят, а может и в командировку едет. В общем, все благополучно.
Neptune’s Day Придумывать что-либо новое на родительский день оказалось совершенно бессмысленно. Хитами, как и 100 лет назад, были выступления чад, в том году выступление танцевального ансамбля и хора октябрят. Некоторые родители с многолетним опытом посещения этого лагеря сами заготовили номера. Одна мама очень красиво танцевала, а один папа показывал фокусы на уровне Акопяна. Гвоздь программы – товарищеский матч по футболу между сборной пионеров и сборной родителей.
Она тоже была одна, к Ней никто не приехал, и Она была немного грустной. Для нас с Ней это был самый лучший выходной. Все пионеры заняты, все воспитатели и вожатые заняты, начальница просто с ума сходит. Врач с медсестрой наготове. О том, что детям нельзя привозить еду, говорили заранее, просили детей напомнить об этом в письмах, говорили детям, чтобы отказались от гостинцев, обещали шмонать тумбочки и кладовки, но все равно каждый год в этот день туалеты не справляются с потоком посетителей, а в медпункте съедают весь уголь и выпивают всю марганцовку.
Оставленные в покое, мы посидели в пионерской, поболтали. Пошли в Большую Беседку, но там на каждой лавочке пир горой. Я предложил уйти в самоход на пляж. Мы немного поспорили, но так и сделали. Это было, кстати, грубейшим нарушением режима. Ходить на речку не разрешали даже тем, кто отпросился с родителями. Ну, да бог с ним. Мы повалялись на песочке, поплавали за буйки, вместе с местными поиграли в «картошку», и я вдоволь любовался ей в одном купальнике. Мы вернулись к ужину, и все было ОК, нас никто особенно не искал, кроме старшей пионервожатой. Она хотела провести большой совет, и обсудить итоги прошедших праздников. Опять засиделись допоздна, уже никто не мог сидеть, все зевали, кое-как за что-то проголосовали и разошлись. Нам с Ней надо было идти в самый дальний конец и, как обычно, мы воспользовались дорогой, чтобы еще немного поговорить при луне. Но Она в этот раз выглядела очень уставшей, и разговор не клеился. Она просто оперлась на меня, повисла на руке, и так мы и шли. Вдруг она остановилась, убежала в сторону, отвернулась и наклонилась над кустами. Ей было плохо. На меня она стала кричать, чтобы я ушел, видно стыдно было или еще чего, но я слушать не стал, а взял ее под руку и потащил к медпункту. Она опять засопротивлялась, и я понес ее на руках. Довольно скоро я пожалел о своей выходке, тут уж ничего поделать было нельзя, хорошо, что далеко уйти не успели.
Медсестра отнеслась к нашему визиту довольно хладнокровно, только поворчала немного, что, мол, все ходите, да сколько еще будете ходить, родительский день уже давно кончился, а вы все ходите, и т. п. Я сказал, что Она ничего не ела сегодня, что родители к ней не приезжали, что надо ее тщательно обследовать. Медсестра удовлетворенная добросовестным промыванием желудка, оставила ее в боксе до утра (врач была из местных и ходила в лагерь на работу), а меня отпустила. Я спросил Ее чего ей принести из отряда. Она сказала, что ничего. Ладно, ладно, говорю, свет не гаси в своем боксе, я щас приду.
В отряде я зашел к девчонкам, вкратце обрисовал ситуацию и попросил собрать мешочек с вещами на ночь и на утро. Воспитательнице и Наде сказал, что подожду, пока Она закончит процедуры, и что с более подробным коммюнике буду через часок-другой.
Она мне открыла свой бокс, взяла мешочек, и спросила, не взял ли я чего поесть, что живот у нее пустой, и есть охота страшно. Сказала, что у нее ничего не болит, и что, наверно, мы просто перезагорали.
– Много еще вас больных в лазарете?
– Два малыша в общей палате.
– А где медсестра?
– Спать пошла.
Жила медсестра в том же домике, что и лазарет, но в другом флигеле. Самом дальнем от Ее бокса.
По ходу разговора я запер дверь на засов, и когда Она рассказывала о расписании работы медсестры, погасил свет. В темноте я ничего не видел, и двинулся к кровати по памяти. Она встала мне навстречу, и мы стоя обнялись и стали целоваться. Все так же стоя я снял с нее рубашку и верх купальника. Она как-то сразу сжалась, и стала тянуться к кровати. Пионерская пружинная койка не могла вынести двоих, прогнулась до пола и заскрипела на весь поселок. Мы снова встали и чуть не свалились, налетев в темноте на стол. Что-то говорило мне, что свет включать не стоит. Но сам стол оказался очень кстати, и мы продолжали прямо на нем. Я сам снял свою рубашку и давал ей гладить себя, а сам целовал и ласкал ее грудь. Когда она перестала сжиматься от моих прикосновений, и ее поглаживания стали более искренними, я, наконец, отважился опустить руку. Она замерла как будто в нерешительности. Продолжи она дальше все приведет к ЭТОМУ, отведи мою руку, и она опять останется девушкой. Я не стал ее мучить, а сам одним движением расстегнул пуговицу и опустил руку ниже. Она начала снимать руки с моих плеч, я понял, что она хочет прикрыться, и долей секунды мое лицо было Там раньше ее рук. Два кулачка стукнули меня по затылку, отчего мои губы только плотнее прижались к ее лобку все еще прикрытому купальником. Второй, существенно более слабый, удар легоньких кулачков пришелся уже по спине. К тому времени и джинсы, и трусики были уже приспущены и мягкие ее волосики щекотали мой нос. Третьего удара не последовало, вместо этого она стала поглаживать только что ушибленные ею мои места. От остатков одежды и обуви мы освободились быстро, мне не хотелось ни на мгновение отрываться от ее тела и лица. Она же, очень тщательно стараясь ничего лишнего не задеть, лишила меня шортов и плавок. Она сидела на столе слишком далеко от края, и чтобы перейти к решающей заключительной фазе, ей надо было чуточку подвинуться вперед. Я притянул ее за талию, но ее вспотевшая попа прилипла к гладкой пластиковой поверхности, и стол поехал вместе с ней, омерзительно скрипя и гремя своими ножками по полу. Пришлось пальчиками отклеивать попу от стола, она, смешно елозя, подъехала к краю и отклонилась назад, опершись на руки. Она сидела открытая мне вся и готовая на все, я не в силах сдерживаться стоял между ее ног. Я наклонился к ней, касаясь своей грудью ее сосочков, руками тем временем проводя стадию введения. Убедившись, что мы с ним на правильном пути я начал продвижение вперед. Она заранее, готовясь к предстоящей боли, закусила нижнюю губу и тоже двинулась навстречу. Свои напряженные ноги она свесила вниз и развела еще шире в стороны. Я держу ее за спину, опираясь на локти и прижимаясь к ее телу. Нам не надо было считать «раз-два-три», как и все остальные мысли и чувства, желание бросится навстречу друг другу пришло строго одновременно. Короткий стон, даже не вскрик, ее судорога проходит, и теперь она сама прижимается ко мне, яростно стремясь навстречу своему наслаждению. Все было кончено за несколько секунд. Мне не захотелось пачкать Ее собой, и густая липкая лужица, появилась на столе рядом с ее беленькой на фоне нового загара ягодицей.
Я не дал ей лечь на стол, а отнес на скрипучую кровать, став рядом на колени и покрывая поцелуями ее грудь, руки и плечи. Целоваться в губы с боку было очень неудобно, и еще некоторое время нам пришлось мириться с этим жутким скрипом. Черт побери, это могло, это должно было продолжаться вечно, но отряд бы в этом случае заметил пропажу бойца.
Были сборы недолги, и я чувствовал как она смотрит на меня из под своего одеяла, пока я одеваюсь. Меня охватил какой-то неистовый приступ эксгебицонизма, и я во всех ракурсах продемонстрировал свои отличительные он нее черты и без надобности подвигал стол и табуретку, играя бицепсами и трицепсами. Половой тряпкой я промакнул стол и часть пола его окружающего, обратив внимание, на совсем небольшое красное пятнышко. А на тряпке оно и вовсе неразличимо.
Поцелуй на прощанье показался мне совсем не поцелуем друга, приходившего навестить больную подругу, не экстазом страсти пылких влюбленных и даже не молодоженов во время медового месяца, а скорее мужа уходящего на работу. Казалось, что все, теперь навсегда, каждый день всю оставшуюся жизнь мы будем вместе.
До отряда я добежал бегом. Надя с воспитательницей не спали, я рассказал историю с медсестрой, которая должна была подтвердиться завтра утром. Оставалось только надеяться, что никто не станет проверять события по часам.
Я пошел в палату, но совершенно не спалось. Я тогда вылез в окно и пошел в душевую, облился холодной водой и пожалел, что не пройти в кладовку. У меня в рюкзаке лежала еще неоткрытая пачка настоящего Winston’a, а мне вдруг страшно захотелось закурить. Я знал, что у Шмеля есть заначка, и я его разбудил. Даже спросонья на автопилоте он пытался убедить меня, что вообще не курит, и ничего не знает. Все мы пионеры-герои! Пришлось разбудить его более основательно, и пообещать, что отдам. На что он согласился, и мы вместе сели на завалинку и выкурили по штучке. Меня с непривычки повело, я еле влез обратно в окно, но оставшиеся несколько часов до подъема спал как убитый.
Утром я загнал всех на кроссе, взяв заведомо нереальный темп, чтобы поскорее добежать до изолятора. Надя, воспитательница и несколько девчонок уже роились вокруг открытого бокса. Я деловито осведомился все ли у Нее в порядке, и узнал что у нее ВСЕ в порядке. Я сказал, что это сразу может не пройти, надо подождать пока закончится инкубационный период, а вдруг инфекция. Намекнул, что присутствующим девчонкам, в т. ч. воспитательнице и Наде следовало бы поберечься. Я, мол, до решения официальных медицинских органов, к своему подозреваемому в инфекционном заболевании заместителю, приближаться не намерен. И не приблизился. Еще успею.
Все таки, диагноз «симуляция», лучше, чем раскрытие самоволки, и тем более ночных событий.
Почти до самого конца смены у нас не было больше возможности так уединиться, но факт, что наши отношения суть нечто большее чем «командир-комиссар» скрыть мы не могли.Шуточки летели отовсюду, и даже наша отрядная газета (вот этими вот руками выпестованная) в каждом выпуске публиковала «светскую хронику». Безобразие!
Зарницу, преобразованную нами (командирами, комиссарами и советом дружины) с помощью вожатого-«афганца», мужа одной из воспитательниц – капитана-преподавателя одного военного училища, и соседнего стройбата, из практически «казаков-разбойников» в сложную оперативно-тактическую игру мы провели рядовыми в окопе. Никто из командиров, комиссаров и совета дружины не мог командовать на зарнице, потому что знали все тайны и планы. У нас был отдельный окоп на самом дальнем фланге, в котором мы сидели, даже формально никому не подчиненные, не имея даже командира. По радио нас никто не вызывал, и мы с удовольствием слушали эфир «агрессоров». «Защитники» были на другой частоте, а рации сделали принципиально не перестраивающимися. Посчитав команду «все к бою» все-таки к нам относящейся, мы встали в свою цепь, отдельную от всего, т. к. все уже давно передислоцировались. Честно нарвавшись на мины, мы отступили и пошли в обход. Во второй атаке оставшихся в живых уложил пулемет. Она, комиссар 2 отряда и я, все легко раненные, выносили с поля тяжелых и убитых через завалы и прочие препятствия. Чтобы всем было интереснее играть, тыловых служб и обозов не было. Их роль выполняли раненные, а после «оприходывания» и убитые.
Несли мы на носилках одного зажатого во всякие шины и жгуты бойца через кучу веток, как брезент старых, списанных пионерам еще при царе Горохе носилок порвался, и я увидел, как несчастный боец выпадает, и, неспособный пошевелиться, переворачивается и летит лицом прямо на острые ветки. Я кое-как прыгнул прямо с веток, подхватил парня за подмышки и перевернул вверх лицом, но нога у меня сорвалась, и я полетел сам. Только убедившись, что парень приходит на спину и «пятую точку», я начал страховать себя. Свалился я очень неуклюже, сильно ушибив левую руку. Опершись на правую я встал. Народ вокруг только начал поворачиваться в нашу сторону, даже не догадываясь о том, что могло произойти. Она неподалеку делала перевязки и все видела. Стремглав она бросилась ко мне, хотя положение парня объективно было хуже. Ну, могу ли я судить ее за проявленный таким образом субъективизм? Она взяла меня за руки и левая, ушибленная, заболела с новой силой. Я Ее отстранил и призвал всех помочь моему напарнику по носилкам помогать бойцу. Тихонечко мы с Ней отошли, и я сжав зубы засучил рукав. Любой обученный пионер-зарничник не колеблясь поставил бы правильный диагноз: закрытый перелом обеих лучевых костей со смещением. Она охнула и чуть не упала. Я говорю:
– Есть еще свободные шины?
– Больше нет.
– Сними с того, на носилках и тащи сюда тихонечко. Если сейчас воспитатели узнают – в жизни не доиграем.
В шине я мог действовать наравне со всеми «ранеными», хотя рука болела. Нормально болела.
После победы более многочисленных «агрессоров» над старшими «защитниками» (наш отряд) Она сама привела врачиху ко мне. Та размотала все, осмотрела и спросила:
– Кто накладывал шину?
– Я – ответила Она.
– Молодец. Накладывай обратно. Не сильно болит? – Это уже мне.
– Да нет, терпимо, – храбрюсь я. Рука и на самом деле болела гораздо меньше.
– А то давай, укол сделаю. Еще не дойдешь.
А мы и не пошли. Стройбатовский майор нас на своем УАЗике довез сначала до лагеря, где мы зафиксировали у начальницы ЧП, а я попросил Ее незаметно принести из моего рюкзака Winston. Она удивилась, но ничего не сказала. Как бы само собой подразумевалось, что Она поедет тоже. Задания на время нашего отсутствия наш почти поголовно убитый отряд принимал молча и отрешенно. Как будто корову проиграли!
Ехать пришлось в соседний райцентр, а это километров 100 напрямую, из них половина по проселку, и руку растрясло немного. Можно было бы закурить, майор бы разрешил, но врачихи я опасался.
В больнице укол все же сделали, и вправляли под местным наркозом. Сделали еще снимок. А я так и сидел с рукой на столе, пока всю фигню проявляют.
Местные врачи Ее иначе как за медсестру не считали, так к ней и обращались. Мы все трое тихонечко переглядываемся и молча ржем, врачиха аж сама разошлась – сыплет ей латынью, ланцет-пинцет, все дела. Умора!
Закатали мне ручищу в гипс зачем-то до самого плеча, обкололи еще чем-то и отпустили восвояси. Врачиха осталась бумажные дела решать, а мы пошли к машине. Майора не было, и мы с шофером перекурили по Winston’у.
Свято соблюдая первый закон боевых действий «Война войной, а обед по расписанию», майор устроил прием пищи (на самом деле уже ужин) в столовой местного призывного пункта. Я вполне обоснованно закосил мытье левой руки, и Она с удовольствием для нас обоих вымыла мне правую.
Мы смотрелись, думаю, неплохо. Офицер, гражданской наружности дамочка, девчонка военной наружности (мы еще были в одолженных у стройбатовцев старых х/б) с медицинской сумкой, и два солдата, один с загипсованной рукой. Все прошли в офицерскую столовую. Во призывники, порадовались открывающимся перспективам!
На обратной дороге Она честно взялась всячески меня поддерживать, но буквально на полуслове вдруг заснула прямо на загипсованном моем плече. Солнышко мое! Устала-то как, переволновалась! Врачиха еще раз улыбнулась и, испросив разрешения старшего (и откуда только такое знание Устава), сама предложила мне закурить. Я свободной рукой достал из Ее нагрудного (!) внутреннего (!) кармана свою пачку Winston’а и мы втроем с майором закурили мои. Врачиха после моего изящного доставания сигарет уже, по-моему, ничему не удивлялась.
Оставшиеся до конца смены деньки прошли тоже на ура. Я еще раз звонил домой и попросил маму привезти футболок с широкими короткими рукавами и спортивные курточки для своей руки. Про травму ей, естественно, сообщили.
Мне очень хотелось пожить с Ней рядышком еще немного, и предложил остаться вместе на 2-ю смену. Она сказала, что не может, что должна уезжать к родителям. (Вот почему они не приезжали, они где-то далеко!). Ладно, говорю, я решил зависать здесь до упора, хочешь, приезжай на 3-ю, я никуда не денусь. Вот завтра мама приедет, я скажу ей, чтоб купила еще две путевки, на 2-ю и 3-ю смену.
Мама спросила меня, уверен ли я, что не лучше бы с рукой не рисковать. Я был уверен, и мне кажется, что мама поняла, что оставляет своего израненного сына под присмотр этой хорошенькой девчушки, характерно так на Нее посмотрела, о чем-то с ней переглянулась, и сказала, что все будет ОК.
За исключением понятно чего, мы с Ней вели полноценную семейную жизнь и совместное хозяйство. Иногда мы даже прерывали поцелуи и занимались делами, но допоздна больше не засиживались. Я не знал, что буду делать целый месяц без нее.
И вот настал тот день. Весь лагерь загружался в автобусы. Мы с ней уже обменялись и телефонами и адресами (не поддавшись лагерной традиции исписывать пионерский галстук) и просто сидели на крыльце пионерской. Она очень деловито объясняла мне как я должен беречь свою руку, как я не должен ничего делать, ни в футбол играть, ни … Я перебил ее, сказав, что за наших детей я спокоен. Она полсекунды догадывалась, что я сказал, потом назвала меня дураком и замолчала. Посадка уже заканчивалась, ей надо было идти. Я встал на ступеньку ниже, подал ей руку. Она поднялась и посмотрела таким шутливо обиженным взглядом, что я чтобы не засмеяться перед почти всей четырехсотенной аудиторией поцеловал ее крепко и долго под ободряющее улюлюканье, и вроде даже «горько».
Во второй смене я стал главным пионером лагеря – председателем командирского собрания. Это мы сами придумали такой орган. В него входили командиры и комиссары отрядов. А вот Суд Пионерской Чести возобновлять не стали. Все пионеры – герои. Они умрут, но ничего не скажут. Остались мы без третьей отрасли власти. А вот газеты получились что надо. В орган совета дружины и командирского собрания принимали всех, и редколегия формировалась сама. А на право издания второй газеты боролись отряды. Потом все выпуски обеих газет куда-то увезли. Наверно, не в Госбезопасность. Может, в «Артек» или «Орленок» отправили. Не знаю. Не удалось внедрить и основы экономической системы, успешно, на самом деле отработанные на дне Нептуна.
Я завертелся, как черт знает что, занимался решительно всеми делами, лишь бы не было ни секундочки вспомнить о Ней. Мы договорились, что она первая напишет, и я скрепя сердце проходил мимо дачи начальницы, где складывали почту. Еще только 4 дня прошло с начала смены. Она, наверно, еще и не доехала.
По своей инвалидности я честно теперь косил общую зарядку и тем более специальную, а занимался, если была охота, сам. В то утро охоты у меня не было. Поздно лег, плохо спал, решил поваляться. А мысли все дурацкие в голову лезут, все о работе, да о работе. Мол, крутовато рванул, еще 2 смены впереди, да и к Winston’у напрасно пристрастился. А что делать? Где тот человек, которому не надо объяснять дважды? Да что дважды! Которому даже ничего говорить не надо было. Только по одной искорке в глазах которого я знал, что надо делать. Где эти глаза, где эти темные в контраст волосам ресницы? Где эти светлые локоны, спадающие, если не затянуты в pony tail, на круглые плечи? Где эти гладкие и сладкие ножки? Где все теперь это? Где Она?
Да к черту одеяло, все равно в отряде никого нет!
– Разрешите помочь, товариш (это у нас с ней такой свой жаргон) командир?! – раздается звонкий девичий голос с подоконника.
Не вставая с кровати, стаскиваю ее к себе. В четыре руки мы ее молниеносно раздеваем. Не думаю, что в мире существует большое количество пионерских кроватей, перенесших такое.
Пока все бегали умываться, мы сидели в беседке и болтали. Она уговорила родителей разрешить ей остаться. Они немного обиделись, но все равно сами приедут осенью. Потом дедушка доставал путевку, а потом на первой электричке она приехала сама.
Когда собрались на линейку, я (а не воспитательница или вожатая) представил Ее отряду.
– Прошу ее жаловать, – закончил я свое выступление не совсем полной формулой представления. Я чувствовал, как Она сдерживает улыбку, но удержался, чтобы с ней не переглянуться.В нашем супердемократичном лагере, однако, оказалось не очень трудно придумать должность заместителя председателя командирского собрания, и провести выборы. Я до сих пор смеюсь над всякими рейтингами, предвыборными кампаниями, многопартийными блоками. Мне с младых ногтей известно, как надо проводить выборы.
Организуя работу кружков и подыскивая помещения, я нашел одну очень неплохую кладовочку, с толстой дверью и угрожающего вида, но очень простым, амбарным замком. Я ее прибрал в тайне даже от Нее, и раз на тихом часе показал наше пристанище на ближайшие два месяца. Дольше 24 часов подряд кладовочка оч. редко пустовала.
Конец августа мы провели в городе тоже вместе. Вместе ходили по школьным базарам, с шутками и прибаутками выбирали друг другу форму. Шоу устраивали на каждом школьном базаре. В последний раз отчудили уже отдав талончики и заплатив. До этого долго бегали друг к другу в примерочные кабинки, приносили костюмы, блузки, рубашки галстуки и шарфики, вызывая по меньшей мере недоумение у персонала и пуритански настроенных посетителей. Вот, отходим от кассы, в новеньких костюмчиках, бирки свисают отовсюду, несем на контроль чеки, как вдруг по радио заиграл «На сопках Манчжурии». Мы тут же, посреди отдела стали танцевать. Народ расступился, ошалело гладя на такое безобразие. А как здорово она кружилась! И юбка оказалась очень подходящей для вальса, поднималась чуть ли не до самых подмышек. Я не мог наглядеться. После одного из таких поворотов она игриво и смущенно глянула на меня, требуя продолжения банкета. Я уже хотел что то сказать публике, типа «Танцуют все», но увидел как Она закончила движение и передумал. А она отпустила мою руку, и обеими руками, все еще кружась, опустила подол, и сделала вид, что жутко смущена недостойным поведением своей новой юбки. Я встал в позу Отелло и тореадора одновременно и погнал пургу вроде того, что что это за юбка! Это ты ее перед каждым встречным будешь вот так задирать?! Да я тебя не только на порог своего дома больше не пущу, но и в школу из твоего дома не выпущу в этой юбке! И все в голос, перед всеми собравшимися и еще недавно готовыми апплодировать нам зрителями. Она в ответ напирает на меня, трясет кулачками, обзывается хамом, ханжой и невежей. Что, мол, я сам ни одной юбки н пропускаю, бабник чертов, и могу катиться ко всем чертям, но эта юбка – ее юбка и она с ней теперь ни за что не расстанется. Мы картинно размахиваем руками, и переходим на испанский. Народ, только сейчас поняв, что это продолжение шоу, уже в покатуху. Я вырываю у нее из руки ее чеки и иду к кассе.
– Sinorita, por favor, отдайте мне деньги и снимите с нее эти развратные одежды!
Кассирша оказалась с чувством юмора и ответила в тон, но вполне определенно:
– Синьоры могут получить свои пиастры и отдать купленные одежды, но они не смогут купить себе новые, ибо их талоны уже погашены и наколоты на гвоздик.
– Ah, carramba! Madonna mia!.
– Да будет проклят тот день, когда я пообещала свою руку и сердце тому, кто победит на корриде!
– Да лучше бы я сдох на рогах благородного животного, а ты бы жила с этим вонючим козлом доном Карлосом!
Etc., etc.
Мы взяли свою штатскую одежду и кидая ей друг в друга дошли до трамвая. Только плюхнувшись на сидение на задней площадке, унялись и всю дорогу ржали.
Встречаться ни у меня, ни у нее было нельзя, в таких домах как наши, любых гостей отмечают. Но был у меня еще двоюродный брат. Жили они вдвоем с матерью (маминой сестрой) в очень удобном месте: на равном расстоянии от наших с Ней школ. Обычно времени хватало, до того как тетя придет с работы, но порой из молодеческого ухарства мы приезжали к брату с утра и косили первые уроки.
Родители не могли ничего не замечать, но молчали. Мама пыталась затевать беседы, но мне более или менее тактично удавалось от них уходить. А как-то раз мама попыталась подключить к моему воспитанию отца, но тот был занят своими мыслями, а мамиными и моими заниматься не хотел.
– Да ты хоть знаешь, чем живет твой сын, кто его знакомые, что у него есть, девушка, в конце концов?! – повысила голос мама.
– Высокая блондинка, волосы вьющиеся, длинные, предпочитает обувь на невысоком каблуке и одежду из натуральных материалов, – как ни в чем не бывало ответил отец, показывая, что для моего воспитания он использует время гораздо эффективнее некоторых. Мы с мамой, вообще-то, привычные к таким шерлокхолмсовским выходкам, даже кое-чему обученные.
Но Ее инкогнито так и оставалось нераскрытым до зимних каникул.
Отгуляв Новый Год, мы с Ней собрались поехать с компанией на дачу, даже вещи уже упаковали. И вот, раз за ужином отец и говорит, что, мол, встретил на собрании своего старого друга с женой (оказалось, что мама их тоже помнит), которых не видел много лет, они все ездили по окраинам света, и вот, наконец, угомонились. Короче, он пригласил их назавтра в гости.
– Меня, – говорю, почуяв недоброе, – это не касается. Мы с ребятами едем на дачу.
Жалкая попытка, как всегда ясно было все с самого начала разговора. Но без боя я вообще не сдаюсь. Я крыл навесом, что у ребенка-то всего и есть времени на свою жизнь, что каникулы, что от их всяких музык-секций-языков современная молодежь света белого не видит и потому усилиями собственных же родителей превращается в потерянное поколение. В ответ прямой наводкой летело, что РЕБЯТА за день никуда не денутся, и не собственно РЕБЯТА тем более, что я уже взрослый сын своих родителей и мог бы уже понять это. И напоследок бетонобойным из главного калибра:
– У них дочка, по-моему, твоего возраста!
Вот тоже еще аргумент! Я поведу ее в детскую показывать свои машинки и коллекцию самолетов, а потом мы будем играть в дочки-матери моими солдатиками и индейцами. Перспектива!
Я долго думал, что Ей говорить, так ничего не придумав, взял и позвонил. Она была тоже не в духе, и даже вроде обрадовалась, что я не смогу поехать. Я удивился, и даже обиделся, а она говорит, что ее не пускают родители, но ничего, надеется, что все быстро уладится.
Следующий день весь прошел в подготовке к приему гостей. Резали салаты, крутили пельмени, кое-кто собирал аккуратно разложенные по всей квартире свои учебники, книжки и журналы. Потом кое-кому не дали после трудов праведных полежать пару часков до прихода гостей, а принудили «навести порядок на своем столе». Это равносильно расстрелу. У меня для этих целей был снятый с бабушкино чердака еще несколько лет назад ситчик в «петухах» (размером где-то 140 х 300), но в этот раз номер не прошел. Все равно у меня остался часик полежать, и я проклял все, пришли бы поскорее. Хотел Ей позвонить, но удержался, чего зря всем душу теребить. Гости (раз уж папины коллеги) поскорее, ясное дело, не пришли, и ровно с шестым писком радио на кухне раздался звонок в дверь.
Привратником у нас по таким случаям я, и неспешно обувшись в парадные туфли, я пошел открывать. Дурачиться я решил с самого начала, и, распахнув дверь настежь, принял позу зазывалы из чайханы: согнулся в пояснице почти пополам, носом в пол, правая рука на сердце, левая откинута и приглашает гостей проходить. Гости начинают проходить и первый же проплывающий мимо моего носа подол женской шубки заставляет меня действительно схватиться за сердце. Эту шубку я знаю лучше, чем свои пять пальцев. Я по несколько раз на дню, бывало, снимал ее и подавал, я валял эту шубку вместе с ее хозяйкой в сугробах пригородных лесов, и укрывался ей по ночам на холодных верандах всевозможных дач. Этого не могло быть, но против фактов аргументы бессильны.
Когда родители достаточно вовлеклись в обниманушки-целованушки, я закончил возиться с замком и тихонечко оглянулся. Она, а это, конечно же, была Она, стояла ко мне спиной и уже расстегнула шубку. Я положил ей руку на талию и спросил:
– Товарищь (мы в еще летом договорились различать титул «товарищ» для мужчин и для женщин), позвольте Вашу шубку.
Крайняя степень офигения. Столбняк.
– Спокойствие, только спокойствие. Нас сегодня ждет небольшое развлекалово.
Старые друзья и подруги за столом много говорили о себе, об общих знакомых, хвастались должностями, знакомствами, увиденными спектаклями и прочитанными книгами. Я тихонечко следил за мамой. Теоретически, только она могла Ее узнать, но в лагере они виделись мельком, тогда Она была с распущенными волосами и ковбойке, а сейчас в вечернем платье с прической и даже с косметикой. Нет, не узнала, решил я и спектакль продолжался.
– Вы не желаете вот этого салата? Это я его заправлял!
– А Вы, …, собираете марки? Ой, правда? Покажете, хорошо?
У родителей разговор подошел к хвастовству детьми. Я, как обычно, оказался остолопом и балбесом, как только меня земля носит. Она оказалась чудесной девочкой, такой самостоятельной, одна живет с дедушкой, пока мы в разъездах. Вот почти год не виделись.
– Как, она к вам этим летом не приезжала? – Это мама, и я понял, что это начало их с отцом игры в три паса.
– Ну, девушка уже большая, у нее наверно, уже свои планы на жизнь. – Это папа, я перехватить не успел, значит теперь только следить как мячик влетает в наши ворота.
– Да, у них в лагере в этом году оказалось так интересно! Не захотела уезжать. – Это Ее мама. Мяч касается штрафной площадки… Офвсайта не было, можно играть! Мяч у нападающих… Ну, кто же первый!
Папа с мамой наперебой, в сторону молодежного края стола:
– Да, ребята, расскажите, наконец, что вы там такого интересного у себя в лагере устроили?
После этого дня родители вдруг стали сообщать мне, раньше которого часа они точно не вернуться, стали спрашивать, не нужны ли нам дрова на даче, и вообще вести себя неподобающе нормальным родителям.
Провожать Ее мне было далеко, и возвращался я домой поздно, и раз набравшись наглости, собрал родителей, и, кое-как подведя теоретическую базу, предложил перейти к практике совместного проживания. Родители, и ее, кстати, тоже, не отказали себе в удовольствии поиздеваться над своими детьми, но решили вопрос положительно.
«Невестка» моим понравилась. И в хозяйстве разбирается, и вещи перестали по дому валяться, и отметки стали лучше (на это я всегда говорил, что лучше стали отметки и у Нее, просто и обоих стало больше времени).Вечерний чай всякий раз превращался в феерическое шоу. Мы вдвоем стоили целого зоопарка. Лагерных историй было по сто штук на день. Любой наш выход к людям – цирк бесплатный. А как мы ходили покупать презервативы! Можно издавать отдельной книгой. Родители сначала предлагали помощь, но мы отказались. Способов была масса, и мы никогда не повторялись. Иногда разыгрывали на ходу, иногда тщательно готовились. Ну, например, она в верблюжьем пальто, сапоги на каблуках, ридикюль, темные очки, дорогая косметика, а я в прошлогодней форме, с клеенчатым портфелем, изрисованным синей ручкой и с пионерским галстуком, торчащим непременно из бокового кармана куртки. Сначала мы привлекаем к себе внимание кассирши оживленным, но неразборчивым диалогом (надо только дождаться, когда никого у кассы не будет) а потом Она мне швыряет несколько монет, часть из них падает на пол, я бросаюсь их собирать, а она.
– Ишь, какой большой выискался! Презервативы ему покупай! Да как ты смеешь! Ко мне с этим обращаться! Кто я тебе?! У себя в подворотне будешь так разговаривать! – я красный по уши уже не подбираю укатывающийся пятачок, явно не лишний в моем бюджете, а стремглав несусь к выходу. Она, все еще фыркая от негодования, подходит к кассе, пробивает:
– Цитрамон, Аллахол, Парацетамол, Ревит. Алюмагель еще не завозили? Тогда все, – и протягивает вместе с купюрой заранее заготовленную бумажку «100 шт. презервативов».
Страшной разлукой стал ЛТО в июне. Мы с Ней писали письма без преувеличения каждый день. Кроме всего прочего, мы в письмах обменивались опытом руководства коллективами методами, которые мы совместно разработали. Тем же летом мы тремя семьями поехали на юг.
На самом деле, я удивляюсь, почему наши отношения вообще продолжались так долго. С той силой, с какой они горели, пороху не должно было хватить, но Надино пророчество, так или иначе, сбылось. Нет, мы оказались не слишком разными людьми, а просто одним человеком. Да, кстати, она была ровно на 2 дня младше меня! Не половинками одного человека, как считается должно быть в идеале, а Она и я были идентичными личностями, волею судьбы размещенными в разных телесных оболочках. К следующему лету мы исчерпали друг друга полностью, и жили вместе скорее уже по привычке. Разлука следующего лета стала решающей для наших отношений.
Но мы не потеряли друг друга из вида, часто встречались и вместе с родителями и сами по себе и до сих пор дружим семьями. Ее муж и моя жена поначалу опасались чего-то (всего они не знают, знают только, что знакомы с детства), но теперь успокоились. А наши с Ней выходки (на самом деле совершенно безобидные) иногда до сих пор потрясают то какую-нибудь старую компанию, то какую-то часть деловых или культурных кругов нашего немаленького городка. Да, у нее близнецы-мальчики, а у меня близнецы-девочки, и ее близнецы старше моих на 1 год без 2-х дней.
С Надей мы тоже встретились как бы случайно, но в каком институте она учится, для пионеров тайной не было, хотя лично мне она этого не говорила. До моего поступления в институт и до, соответственно, ее окончания института мы встречались. Потом она вышла замуж и уехала, а я уехал учиться, и вернулся со своей настоящей половинкой. Она даже по-русски говорит с акцентом.
Как и мой отец, я не стал хозяином, а стал служащим. Отец до последнего служил верой и правдой, и новые времена его не сбили и не поколебали. Став генеральным директором, я снова нашел Надю, опять у нас и опять незамужнюю, и пригласил работать консультантом-психологом. Лучшего психолога нет пока в мире и его ближайших окрестностях.
Зигмунд
2000 г