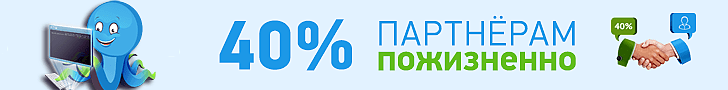Николай поднялся с постели и, не спеша, пошел в ординаторскую.
– Входите, входите! – услышал он певучий голос Майи Михайловны, заглянув в приоткрытую дверь, – да закройте дверь на защелку, чтобы нам не помешали: я хочу поговорить с вами, что называется, тет-а-тет… Проходите, садитесь вот сюда, надеюсь, вам будет удобно. – Она указала на дальний от двери конец старого низкого дивана, усевшись на который, Николай провалился, чуть ли не до пола.
«Без посторонней помощи с этого дивана и не поднимешься, – подумалось ему, – зачем я ей понадобился?.. Сама на нормальном стуле сидит».
Майя Михайловна сидела на «нормальном», хотя и довольно старом стуле, боком к столу, облокотившись на него правой рукой, как раз напротив дивана, на котором сейчас ерзал в мучениях Николай.
– Вас, кажется, зовут Николай Иванович? – оборвала она его размышления.
– С вашего разрешения, Игоревич.
– Да, да, простите мою ошибку, Николай Игоревич!
– Я что-то сегодня несколько рассеяна. Прошу вас, закуривайте, – она протянула ему распечатанную пачку «Салем».
– Спасибо, я только что покурил, – попытался слукавить Николай, в надежде хоть как-то сократить время визита.
– Фу, как невежливо отказывать даме, вы мне до сих пор казались таким галантным мужчиной!
– Извините! – польщенный, он уже с готовностью взял протянутую пачку.
– Мне тоже предложите, галантный мужчина!
– Да, конечно же, прошу Вас! – он протянул ей сигареты. «Ну, прямо какое-то состязание в светскости», – досадливо подумал он.
По натуре застенчивый, Николай испытывал почти физическое недомогание, общаясь с незнакомыми и малознакомыми женщинами, и тем оно было нестерпимей, чем привлекательней была женщина.
– Скажите, Николай Игоревич, я давно хотела спросить, что за бумажка висит там, над вашей кроватью?
– Это график моего выздоровления.
– … О-о, как интересно! – приподняла она и без того высокие брови. – Вы ведь уже две недели лечитесь?
– У вас – две недели…
– Вы и до этого уже лечились?
– В поликлинике.
– Ну да, конечно… И что же, соответствует выздоровление вашему графику?
– Почти.
– Очень, очень любопытно! – заинтересованно произнесла она.
Николай сильно сомневался, что ей, такой блистательной женщине может быть любопытен как сам он, так и его дурацкий график, висящий над кроватью, но она была столь обворожительна, что хотелось внимать всему и веровать во все, что плавно вытекает из ее уст…
– Вы, очевидно, торопитесь выписаться?
– Тороплюсь, конечно… – Николай никак не мог понять, к чему она клонит. Он чувствовал, что очарован этой женщиной. Ему нравились и духи, которыми она всегда пользуется, и то, с каким вкусом она одевается, и ее манера держаться, гово-рить… И чем больше достоинств он находил в ней, тем более невзрачным казался сам себе и скованнее становился.
Конечно, поострить там, в палате, при всем больном честном народе, когда она ведет обход, – это у него получалось не так уж и плохо, но здесь, с ней наедине – совершенно другое дело. Да тут еще этот антикварный диван, сравнимый разве что с «прокрустовым», да Майя Михайловна сидит в такой близости, что когда пытаешься приподняться с дивана, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу, то почти задеваешь ее колени.
«Не иначе, все специально подстроила? Знает, что пощусь уже две недели… Вот он – настоящий-то садизм!» – лоб его покрылся испариной.
– Вы себе представить не можете, – продолжала она меж тем усталым и взывающим к сочувствию тоном, – только пришла с улицы, там слякоть, дождь, – меня вызывали в другой корпус посмотреть поступившего больного. Вот, сами изволите видеть, сменить обувь не успела, – глядя ему прямо в глаза, она чуть выставила левую ногу в тонком изящном сапоге, почти без искажений повторяющем выразительный рельеф икр. И устала смертельно: целый день на ногах, – с артистической хрипотцой в голосе закончила она.
Николай с готовностью опустил глаза на предложенный для обозрения сапог.
Она тут же перехватила его взгляд.
– Вы ведь две недели не были дома… соскучились, наверно, по детям, жене? – будто бы участливо произнесла она, пытаясь заглянуть в его опущенные глаза и демонстрируя тем самым, что заметила проявленный к сапогу интерес.
Николай, ощутив это откровенное движение, все понял: «Конечно же, она выпила, ей стало скучно и хочется поразвлечься. Не иначе, заметила мой «голодный» взгляд и теперь изо всех сил забавляется. Ну и пусть, пожалуйста! – поняв ее стремления, он ощутил подрагивающую приятность во всем теле. За этой прекрасной женщиной он, безусловно, признавал право властвовать над собой и кем бы то ни было.
«Она подпускает меня к себе. Ну что ж, в конце концов, такая женщина имеет право на развлечение с кем угодно, в том числе и со мной, если это доставляет ей хоть какое-то удовольствие: она на все имеет право!» – уже без сомнений думал он.
Очень хотелось уговорить себя, убедить в том, что он чуть ли ни обязан пойти навстречу ее желаниям, подыграть ей, ведь сам он никаких попыток не предпринимал, он ни в чем не виноват. На ум услужливо пришли давно знакомые слова из песни: «Снегопад, снегопад, если женщина просит…» Ведь все это исключительно по мягкости его и неумению отказать. Почему он обязан здесь только глотать пилюли, да трижды в день подставлять сестрам задницу под уколы? Почему бы ему слегка не приударить за такой красивой женщиной, коль скоро она не возражает? Только чуть-чуть, ведь от этого никто не пострадает, ведь никто и не узнает об этом.
«Ну да, чему быть, того не миновать! – с отчаянием подумал Николай, – в холодную воду нужно не раздумывая прыгать вперед головой, а там – что будет!».
– Да скучаю, и очень! – прервал он свои размышления, найдя уместным сопроводить эти слова едва заметным драматическим вздохом, который, конечно же, не остался незамеченным.
Николай принял решение и теперь смотрел на нее, свою мечту, материализовавшуюся так вдруг, изображая на лице задумчивую печаль и временами опуская, словно невзначай, тоскливые глаза до пола, всякий раз чуть задерживаясь на ее открытых для обозрения коленях. Он верил, что этот безобидный трюк обязательно возымеет должное на нее действие.
– Не печальтесь так, через две-три недели будете дома, как новенький, если, конечно, к тому времени язва зарубцуется, и я как лечащий врач сочту возможным вас выписать, – продолжала она с легкой иронией, внимательно следя за блуждающими по ее ногам тоскливыми глазами.
– Но это будет так нескоро! – со скорбными нотками в голосе, вновь опуская глаза на ее ажурные колготки, вымолвил он, имея в виду этим замечанием и завершить разговор о возможных сроках выписки.
На ее лице застыла загадочная полуулыбка. Спиртное, выпитое за вечер, эта чрезвычайно «содержательная» беседа с небезынтересным собеседником, его неумение сокрыть печаль в глазах, прослеживающих «случайные» движения ее ног и рук, отчаянные его попытки приспособиться к дивану, – все это развлекало ее и делало вечер приятным. Майя Михайловна с удовольствием закурила новую сигарету.
– Ну вот, только теперь я, кажется, окончательно согрелась, – промолвила она чуть слышно. – Николай Игоревич, там возле шкафа мои туфли, вон те, бежевые, не сочтите за труд, принесите их сюда, – певуче проговорила Майя Михайловна, озорно и вызывающе глядя на него.
«Ага, слово «пожалуйста» опустила», – про себя отметил Николай, не без труда вытаскивая себя из злополучного дивана и направляясь к шкафу.
Ее туфли, стоящие среди других двух пар, он узнал сразу. Это были прехорошенькие туфельки с открытым носком и кокетливой поперечной зигзагообразной перепонкой.
Он бережно взял их, внимательно оглядел со всех сторон, поднеся поближе к близоруким глазам, будто задался целью навсегда впечатать в память, и, чувствуя подступающую к сердцу волну теплоты, украдкой провел пальцем по узкому ремешку до самой металлической застежки, уверенный, что его действия останутся незамеченными. Усилием воли он воспротивился вдруг возникшему острому желанию поцеловать хотя бы одну из едва уловимых вмятин, оставленных многократными надавливаниями больших пальцев ее ног.
Подняв глаза на зеркало, висящее возле входной двери, Николай обнаружил серьезную передислокацию: Майя Михайловна теперь сидела на том самом «топком» диване, на котором мучился минуту назад он и, румяная и соблазнительная, вальяжно откинувшись на спинку, томно потягивалась, глядя на то же зеркало.
Николай покраснел, логично заподозрив, что она все видела, и, быстро обернувшись, направился к ней, пытаясь придать своему шагу как можно больше решительности. Однако решительности его сильно поубавилось, когда он оказался перед диваном, где полулежала теперь Майя Михайловна в ожидании своих туфель. Ее короткий кокетливый халат своей белоснежностью красиво контрастировал с черными колготками. Нижняя пуговица халата от натяжения расстегнулась, и любопытный глаз мог без труда проследить ее ноги почти до истоков.
Николай был готов к чему-нибудь подобному, и все же сильно сконфузился столь откровенно дразнящей позой.
«Нужно не заметить, «шлангом» прикинуться, – пытался по возможности разумно реагировать он на предложенный вариант игры. – С другой стороны, как бы этим «шлангизмом» не разочаровать ее: за импотента может принять или за придурка», – думал он.
Озабоченный этими мыслями, он уставился в пол, прикидывая, куда поставить туфли. Выбрав место, Николай слегка наклонился и несколько небрежно, выпустив их из рук почти у самого пола, определил туфли прямо перед Майей Михайловной.
Выпрямившись, он встретил пронзительный взгляд удивленных глаз. Пять-семь секунд они глядели друг другу в глаза, не мигая, будто оценивая один другого.
– Ну, что же вы остановились на полпути, галантный мужчина, и туфли, коорые только что… ну, не важно… бросили как попало? Разве там их место? Я вовсе не этого хотела! – капризными губками, сложенными определенным образом, она изобразила на лице то, что, по всей видимости, должно было означать обиду и разочарование.
Николаю в этот момент очень хотелось понравиться Майе Михайловне. Хотелось казаться эдаким бывалым, с рыцарскими чертами мужчиной. Хотелось демонстрировать непринужденность и раскованность, исполняя ее мелкие прихоти, чтобы до поры не обнаружить, какое это для него на самом деле удовольствие, но под этим требовательно-недоуменным взглядом он испытывал сильное смущение, мешающее правильно вести свою партию.– Прошу прощения, – промямлил он, совсем стушевавшись. Неловко отодвинув стул, Николай суетливо опустился на колени, и тупо воззрился на ее сапоги, не зная с чего начать. Но если бы он сейчас заметил изменения в выражении ее глаз, рта, всего лица, то, очевидно, без подсказки понял бы, что именно этого ей и хотелось добиться от него во что бы то ни стало. Именно для этого и позвала она его от скуки. Вид стоящего перед ней на коленях мужчины был ей не просто приятен, а возбуждал и вселял уверенность в ее неотразимости. Поклонение мужчин было для нее естественней чистки зубов по утрам и вечерам.
Как только Николай встал перед ней на колени, с ним можно было больше не церемониться и делать практически, что угодно, к обоюдному, – она это чувствовала, – удовольствию.
Именно поэтому она его выбрала и теперь поставила на колени.
Нравится ли он ей? Да стоит ли загружать голову подобными вопросами? Само собой разумеется, коль с такой скорой готовностью обосновался у ее ног, а, кроме всего прочего, еще и интеллигент, примерный семьянин, что более всего трогательно и возбуждает, а уж как застенчив, и как забавно смущается, общаясь с женщиной, – просто приятно поглядеть. И куда подевалось остроумие?
Она видела, с каким вожделением пожирает глазами он ее новые колготы, и это, во всяком случае, ей определенно нравилось. Именно такой тип мужчин и является объектом ее сексуального внимания.
О, как понимала она таких людей, как Николай Игоревич, относящихся к женщине не иначе, как с восторженным обожанием, и почитающих за счастье возможность выразить это обожание любой женщине, кто только соблаговолит должным образом принять его! Такие мужчины не так уж редки в природе. Они в сексе ищут отдушину от собственной жизненной значимости, отдыхают от распирающей их мощи, и Майя Михайловна как настоящая женщина не могла не потакать таким их прихотям. Она была просто создана для такой роли.
Даже в пору неопытной молодости отношение Майи Михайловны к любви и мужчинам можно было бы назвать нестандартным. То, что обычно для мужчины в постели является вожделенной конечной целью, доставляло ей далеко не самое большое удовольствие. Более всего ее привлекала цветистое обрамление, неспешная романтическая увертюра, длительные изысканные ласки мужчины, постепенно распаляющие страсть.
О, как она упивалась раболепием разогретых ее умелыми действиями и изнемогающих от страстного желания мужчин с могучими торсами, волей судьбы призванных, как она полагала, изукрашивать восхитительной радугой красок ее монотонную жизнь!..
«Вот он, очередной поверженный к моим ногам поклонник женской красоты. Сам в ноги бухнулся, без какихто моих усилий. Посиди там, голубчик, прочувствуй свое положение всеми фибрами души. Ощути силу настоящей красоты. Интересно, на сколько тебя хватит? А главное, сколь много приятного в состоянии дать мне твоя влюбленность? – думала сейчас она, внимательно его разглядывая. – Всегда всего интересней начало. Идти приходится осторожно, как по тонкому льду, или по минному полю, шаг за шагом продвигаясь в запретное пространство, силой своих чар забирая все больше власти, гипнотизируя телодвижениями и интонациями голоса, парализуя волю. И самое приятное – смотреть, смотреть во все глаза на безропотные страдания, на беспомощные корчи и конвульсии таких, как ты, чуть-чуть лишь поощряя желания легкой благосклонностью. Так же извивается червяк, когда его насаживают на рыболовный крючок!» – блаженно улыбнулась она, найдя удачное сравнение. Ну что ж, пожалуй, пора. Начнем, мой мальчик! – решила она. – Сейчас мы с тобой будем вкушать наслаждения. На свой счет я не сомневаюсь. Впрочем, и ты старайся ухватить, что сумеешь, точнее, что тебе будет позволено»
Майя Михайловна, томно потягиваясь, будто машинально повела рукой снизу вверх от колена по бедру правой ноги, касаясь колгот лишь кончиками пальцев, в предвкушении удовольствия, которое сейчас доставит ей уже поставленный на колени и готовый ей служить сегодняшний обожатель. От нее не ускользнуло то, с каким вожделением он проводил глазами движение ее хорошо ухоженной и благоухающей дорогими духами руки.
«Определенно, это дежурство будет приятным. Подожди немного, мой милый паж, если ты будешь достаточно почтителен, мягок и послушен, я еще сегодня позволю тебе целовать кончики пальцев этой руки, но это чуть позже, когда ты окончательно войдешь в отведенную тебе роль. Как бы самой не переусердствовать, не увлечься. Пока все идет, как мне хочется». – Она чуть выдвинула ногу, которой только что касалась ее рука, и величественным кивком головы указала на нее.
– Снимай же, наконец, сапоги! Проявляй инициативу! Не сиди истуканом там, у моих ног, мне так скучно! – сверху вниз она с надменной и властной улыбкой глядела прямо в глаза Николаю, специально вслух указывая место, которое с этого момента он будет занимать. Она по опыту знала: это нужно оговорить прежде всего. Она также знала, что обязательно нужно было громко и внятно, ироничными нотками в голосе комментировать его неловкость, неумелость, чтобы внушить свое над ним превосходство, чтобы крохи милости, брошенные ему, принимались не иначе, как с благоговейно-благодарным восторгом. С другой стороны, нужно было не слишком часто, лишь иногда поощрять удачные его действия и инициативы, обласкивая взглядом и мягкими интонациями голоса. Тогда его усердие будет все возрастать.
Теперь Николай даже не заметил, что она говорит ему «ты». Все в нем напряглось и напружинилось: сказывались две недели пуританской жизни на больничной койке. Ее взгляд завораживал, ее воля подавляла, а властная требовательность голоса не оставляла ни малейшего шанса ускользнуть от рабского исполнения любой ее прихоти. Он понял, что совершенно покорен этой обворожительной и хищной женщиной, что влюбился в нее еще там, в палате, при первом же ее обходе, и влюбился, должно быть, потому, что она так захотела, выбрала его. Его затрясло от возбуждения при этой мысли. Он постарался овладеть собой, хоть немного унять сладкую дрожь, волнами наплывающую от живота к горлу, растянуть принесенное ее откровенными словами наслаждение, свыкнуться с их ядом.
Николай глубоко вдохнул, выдохнул и бережно стал опускать замок сапога, заворожено глядя на ее круглое без бугров колено. Эта операция ему удалась. Двумя руками взявшись за низ сапога, он осторожно стал тянуть, но сапог не поддавался.
– Ну, как там наши дела? Неужто тяжелее, чем графики вырисовывать! – с откровенной издевкой обращалась она к Николаю. – Ну, придумай же что-нибудь, наконец, не в сапогах же мне сегодня спать, в самом деле. – Выпевала она с веселым смехом, откидываясь всем телом на спинку дивана и вытягивая ноги. Она уже полностью владела инициативой и, чувствуя легкость, с которой он «насаживается на крючок», самозабвенно наслаждалась, не давая ему возможности оправиться от неловкости.
Николай знал, каким несуразным обычно бывает его поведение в общении с женщинами, и теперь уничтожающие реплики Майи Михайловны, ее красота, боязнь в чем-то ошибиться, показаться ненастоящим мужчиной – все это сковывало и делало его еще более неуклюжим. Но именно его неуклюжесть и позволяла этой роскошной женщине с необычайной легкостью накинуть на него петлю и, жизнерадостно улыбаясь, затягивать ее, с интересом исследователя наблюдая результат. И Николаю это нравилось. Ему вовсе не хотелось форсировать приятное занятие, которым он теперь был увлечен. Да и нельзя было теперь уже сделать все быстро и встать, не обнаружив перед ней своего возбуждения.
– Простите, я сейчас, – он понял, что придется одной рукой взяться за ее ногу, чтобы стащить этот несъемный сапог.
Глядя ей прямо в глаза, он левой рукой дотронулся до коленного изгиба ее ноги.
Она смотрела все так же: сверху вниз, слегка наклонив голову и приподняв подбородок, со счастливой улыбкой бесконечного превосходства и вседозволенности. Она уже не только не пыталась скрыть, а напротив, нарочно старалась показать ему, что упивается легко завоеванной неограниченной властью над ним, издевается над его простотой и непосредственностью.
А между тем, Николаю, наконец, удалось снять один сапог. Окрыленный успехом, он хотел снять сразу и второй, но его прекрасная мучительница распорядилась иначе.
– Где же туфелька? Мне что, ногу навису прикажешь держать, пока со вторым сапогом возиться будешь, или прямо так на грязный пол ставить? Колготки чистые, сам видишь, – зачем-то подчеркнула она, сделав ударение на слове «чистые» и, будто желая доказать этот факт, повертела ногой перед его глазами. – Какой ты, право, неловкий, но это беда поправима. Должно быть, просто не хватает опыта. – Она снова приподняла только что освобожденную от сапога ногу, потянула носок и, артистично изображая на лице блаженство, стала медленно сгибать и разгибать затекшие пальцы.
Живая ее стопа с подвижными пальчиками магнитом притягивала его глаза.
«Ну, каково тебе, миленький? Поди, нечасто ты видел такую ножку? Я тебе дам наглядеться на обе, обязательно дам, ты это получишь, но чуть позже, не сегодня. Чтобы полюбоваться этими ногами, ты примчишься ко мне домой, и будешь не просто любоваться… Ой, что я для тебя придумала, мой ласковый!..» – она с немалым сожалением прервала свой мысленный монолог, так как нужно было переходить к следующему этапу, постоянно наращивая темп. На этой ознакомительной стадии общения непросто было контролировать ход событий, одновременно извлекая из них максимум удовольствий, но Майя Михайловна была талантливым и опытным стратегом.
– Ну же, помассируй, – она грациозно поднесла ногу прямо к его лицу, пристально наблюдая за его реакцией. Он подхватил эту царственную ножку и стал мягко пожимать и поглаживать, отмечая про себя, сколь узка ступня ее ноги и тонки, длинны и изящны пальцы. Он увлеченно водил рукой по этим пальчикам, и с восторгом, который уже не в силах был скрыть, вглядывался в неясно просматриваемые сквозь темные колготки очертания накрашенных ногтей.
Майя Михайловна отлично видела, как напряженно всматривается он, пытаясь разглядеть дивное творение Природы под флером ажурной, с красивыми орнаментальными разводами, полупрозрачной ткани.Она представляла, как он сейчас отслеживает все изгибы и линии пальцев, дорисовывая нечеткие их фрагменты воспаленным воображением. Она выдержала лишь небольшую паузу, точно дозированную, чтобы созерцание красоты не слишком его утомило. Ни в коем случае нельзя позволить пресытиться, упиться, иначе наступит естественный спад чувственного напряжения, что совершенно недопустимо. Это, как вино, – хорошо в строго определенном количестве.
– Уже хорошо, довольно! Ты пытаешься массировать глазами, а не пальцами, но ведь через черные колготы все равно почти ничего не видно! – бесцеремонно демонстрируя свое понимание всего происходящего сейчас в его душе, прервала она его любование прелестями своей очаровательной ножки. – Ты, кажется, вошел во вкус? Не могу сказать, что мне это неприятно, но у тебя есть возможность поухаживать и за второй моей ногой, которой скучно одной там, в кожаной темнице. Освободи ее, «Рыцарь женской ножки», и ты не пожалеешь о содеянном. Я полагаю, вид второй моей затворницы доставит тебе не меньшее удовольствие, ведь она так же прекрасна, как и первая, – шаловливо лепетала с некоторым придыханием возбужденная вином Майя Михайловна совершенные глупости, казавшиеся в этот момент Николаю вершиной поэтической лирики.
Этот текст она сопроводила ослепительной улыбкой и нетерпеливым посту-киванием указательным пальчиком левой руки по колену еще не разутой ноги.
Впитывая всей кожей дивную музыку ее голоса, Николай трепетал от возбуждения. Лицо его горело. Сердце с такой силой долбило грудь, будто пыталось пробить брешь и выскочить на волю.
Восхищение этой божественной женщиной, так тонко чувствующей все происходящее в нем, было безграничным. Сейчас он отдал бы жизнь за обладание ею. Да что обладание?! За одно только право беспрепятственно целовать ее стопы, полными легкими вдыхая в себя дурманящую смесь запахов ее духов, кожи ее сапог, и ее только что разутых ног, он, не сомневаясь, отдал бы всю прежнюю жизнь, а ведь были и в ней моменты…
Дрожащими руками Николай осторожно нанизал туфельку. Он делал все очень медленно: ему некуда было спешить, напротив, хотелось остановить время, или хотя бы притормозить его, насколько это возможно. Будучи не в состоянии понять, за какую доблесть удостоен внимания такой красивой женщины, он боялся, что все вот-вот пропадет, как мираж, и старался прочувствовать каждое сладкое мгновение. Осторожно, будто обращался с античной амфорой, только что извлеченной с морского дна, он освободил вторую ногу от сапога, мягкими, плавными движениями уже без ее побуждения к этому помассировал пальчики и, надев вторую туфельку, осторожно вернул на прежнее место.
– Ну, наконец-то! – сделала она вид, что ей наскучили все эти игры.
Некоторое время Николай продолжал сидеть на пятках, тупо уставясь на ее уже обутые в туфли ноги.
«Вот так бы сидел всю жизнь и любовался этими ногами!», – подумал он. Вздохнув украдкой, Николай стал медленно подниматься с колен, сожалея о том, что все так быстро кончилось.
– Нет, нет! – будто испуганно, быстро проговорила она. – Оставайся там, еще не все! – капризные нотки избалованной, пресыщенной наслаждениями женщины вернули Николая на прежнее место.
– Я еще не наградила тебя, мой верный рыцарь! – ворковала она, – теперь я разрешаю тебе поцеловать мою руку: и даже каждый пальчик в отдельности! Это – знак моей признательности за приятно проведенный вечер знакомства. – Она бережно, как некую ценность, опустила руку на бедро чуть выше колена и кивком головы пригласила его коснуться губами изящной кисти.
Лишь секунду он пребывал в нерешительности. Но уже в следующее мгновенье, подготовленный как нельзя лучше только что произошедшим, переполняемый страстными чувствами, припал он к ее руке пылающими губами. Не помня себя от возбуждения, сантиметр за сантиметром покрывал он поцелуями пахнущую духами царственную руку.
Сползая с руки на ногу и опускаясь все ниже, он приостановился на колене, чтобы исцеловать его вокруг. Он не видел, с каким безмерным и нескрываемым сладострастием и блаженством Майя Михайловна наблюдала за его действиями. Она могла гордиться своим талантом обольстительницы.
«Как легко совратить таких добропорядочных семьянинов! – с невинной легкостью думала она, торжественно и ревниво наблюдая, насколько тщательно вылизывает он ее ажурные колготки, – его нужно поберечь: некоторое время: не слишком продолжительное, конечно. Сейчас сентиментальные люди вымирают по причине невостребованной их чувственной романтики. Все больше хамы встречаются, коих мы – бабы только и достойны по глупости своей и от скрытой тоски по домостроевским вожжам, которыми прежде муженьки спины своих ненаглядных женушек охаживали: Он мне определенно нравится!».
Каждое новое прикосновение его жадных губ к ее ноге теплой волной блаженной истомы разливалось по разомлевшему телу. Она не торопилась прервать несравнимое ни с чем удовольствие видеть, осязать вызванное ее женскими прелестями, ее аристократичными манерами восторженное излияние рабского поклонения. Соперничая в этот час своего торжества с Богами, переполненная сознанием своего всемогущества над человеком, распростертым где-то там, у ее ног, она испытывала состояние, близкое к оргазму.
«Господи, как он мил и доверчив! Поистине, это бесценное приобретение! Как много приятного еще можно из него выжать, если одна лишь рука, лежащая на колене, приводит его в такой экстаз! – умильно думала Майя Михайловна, – только не торопиться, не спешить. Не жадничать. Только постепенно, мягко, бережно: обычно у таких потом бывают угрызения совести, – уговаривала она себя, – еще немного: Боже, как приятно!.. Как не хочется прерывать такие страстные излия-ния! Интересно, как далеко бы он зашел? Но все, все, вот сейчас…», – она намеренно выждала, пока его поцелуи переместились с бежевых туфелек с кокетливой зигзагообразной перепонкой на открытые кончики пальцев.
– Ну, ну, мы так не договаривались! – будто оскорбленная в каких-то лучших чувствах, оттолкнула она его свободной ногой. – Я разрешила тебе поцеловать только руку, а ты позволяешь себе такие вольности!.. Совершенно недопустимо так забываться! – совсем натуральный гнев слышался в ее голосе.
– Простите!.. Я не могу!.. Что хотите, делайте!.. – теперь уже любые ее слова казались наполненными огромным значением.
– С тобой просто опасно оставаться наедине! Ну, хорошо, я подумаю, что можно сделать, – с жеманным великодушием сменила она гнев на милость. – А теперь успокойся. Ляг там на спину и как можно скорее расслабься, примени свой аутотренинг. – Она указала нетерпеливым пальчиком на место под своими ногами.
Он, израненный, неспособный скрыть своего возбуждения, безвольно свалился на вытертый бесчисленными подошвами узорчатый линолеум прямо у ног ее, на место, указанное всемогущим пальцем.
Поверженный и совершенно обмякший после ураганного всплеска чувственных переживаний, он лежал в глубокой прострации, устремив ничего не видящие глаза в потолок и добросовестно старался успокоить тяжелое и прерывистое дыхание.
Майя Михайловна хорошо понимала, что сейчас с ним происходит. Широко раскрыв свои прекрасно-хищные глаза, она, казалось, никак не могла насладиться этим волнующим зрелищем своего торжества.
«Еще не все, нет, сейчас мы закрепим пройденный урок!» – ликующе думала она. Она прекрасно знала, что любой успех обязательно следует завершить каким-то эффектным штрихом, последним мазком гения на только что рожденном шедевре. Наибольшее впечатление произведет именно этот последний штрих. Концовка должна быть на высокой пронзительной ноте, только тогда она надолго запомнится и будет точить и разъедать однажды смущенную душу, требуя, точно наркотик, повторения и все нового увеличения дозы наслаждений. Отравленная душа навсегда утратит покой, и через все условности и препоны будет рваться она за новой усладой, которую, несомненно, может дать только ее отравительница.
Она сбросила туфельки и поставила одну ногу ему на губы, а другую на грудь, пропихнув ее в щель расстегнувшейся молнии куртки.
– Вот так, полежи и успокойся, заодно и ноги мне погреешь: своим горячим дыханием. Следи за своим пульсом, – с этими коварными словами она, не скрывая удовольствия, откинулась на спинку дивана и с легким вздохом закатила глаза, предвкушая массу будущих удовольствий в общении с этим пластелиновым человеком.
– Ну что, успокоился? Иди ко мне, садись рядом. Я приглашаю тебя в гости: да, в гости, к себе домой, – спустя некоторое время мягко произнесла она, «позабыв», однако, снять с него ноги.
Эти неожиданные слова заставили Николая дернуться всем телом, но он снова застыл, не зная, как поступить.
– Почему же ты не встаешь? Ах, э-это! Она, смеясь, сняла с него ноги и поставила на туфли, – Надень мне туфли и выслушай спокойно.
Он приподнялся и ошарашено глянул на нее: нет, не похоже, что она шутит, но тогда ее приглашение может означать только одно?..
Надев ей туфельки, он сел на диван чуть поодаль от нее.
– Приезжай ко мне в воскресенье, в полдень. Я думаю, ты не будешь очень занят в это время?
– Я хотел домой съездить в субботу и в воскресенье, – промямлил он нере-шительно.
– Вот и прекрасно, домой съездишь в субботу, повидаешь детей и жену, но только постарайся не волновать себя близким общением с ней, иначе не уложишься в свой график: да и в мой тоже, – с нажимом на слове «мой» закончила она. – Надеюсь, я достаточно вразумительно выражаю свои мысли: и желания? – стальные, властные интонации ее красивого голоса пронизывали его насквозь, ввергая в трепет.
– Я буду у вас, Майя Михайловна! – натужно проговорил он.
– Я в вас не сомневалась, Николай Игоревич, – снова становясь великосветской дамой с изысканными манерами, она протянула ему руку, картинно вывернув кисть под прямым углом к предплечью и чуть отставив мизинец. – Возвращайтесь в палату и отдыхайте. Помните, послезавтра в двенадцать я вас жду у себя.
Он почтительно поцеловал протянутую руку, будто печатью скрепив их новые отношения и договоренности, поднялся и, как в туманной пелене, с большим трудом разглядывая незнакомые предметы, наставленные там и сям в самых неподходящих местах этой комнаты, добрался до двери.– Подождите, как же вы приедете? Вы же не знаете, где я живу? Я напишу свой адрес и телефон, – остановила она его. Быстро написав что-то, она подала ему листок.
***
Как ни сдерживал себя Николай, у дома Майи Михайловны появился все же раньше времени, и ему пришлось двадцать минут прогуливаться, успокаивая сердцебиение.
Ровно в двенадцать он нажимал кнопку звонка. Там, за заветными дверями не слышалось никакого движения. Выждав минуту, он снова позвонил. Еще через минуту Николай уже давил на кнопку изо всех сил. Отчаянные эти попытки дозвониться были столь же результативными, что и прежние.
Он спустился во двор и позвонил из телефона-автомата. Трубку никто не брал.
«Что же это такое? – недоумевал он, – ведь назначено в полдень?.. Может, случилось что-нибудь?»
С Майей Михайловной ничего не случилось. Проснувшись в десять, она потянулась за книжкой и, раскрыв на месте закладки, с увлечением стала читать.
«Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое: Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди».
Майя Михайловна откинулась на подушку и закрыла глаза, представляя себя на месте царицы Астис.
«Интересно, что такое «уреус», должно быть, медальон такой?» – лениво думала она.
Она снова пододвинула к себе книгу.
«С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвевал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибеллы и Ашеры переступала все человеческие возможности.
… Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии».
Медленно перечитывала Майя Михайловна эти поэтические строки, вбирая и растворяя в себе бравурную музыку не обузданных никакими условностями страстей.
Некоторое время она лежала на спине с закрытыми глазами, будучи не в силах расстаться со сладостными картинами, написанными ее пылким воображением.
«Скоро примчится и мой милый «жрец», – подумала она, сладострастно улы-баясь, – и я буду купаться в наслаждениях, доступных только царицам. С Соломонами у нас, конечно, напряженка, но нам они как-то и ни к чему. Уж как-нибудь обойдемся! Мы сами себе и Соломон, и Астис. Нам не хватает только толпы оскопленных жрецов, но за одного не оскопленного ручаться можно».
Она легко соскочила с постели, набросила на себя пестренький халатик, наскоро затолкала подушку, простыню, одеяло в тумбу и с книгой направилась в ванную. Выкрутив краны, она блаженно растянулась в ванне и снова открыла книгу на том же месте.
«Ага, вот и мой «рыцарь на час», – подумала она с улыбкой, услышав звонок в дверь. Она отложила книгу и стала представлять его дальнейшие действия. – По-дождет немного… Теперь опять позвонит… Ну, звони!.. Ага, теперь опять станет ждать… Позвони еще!.. Так, так, настойчивей!.. У тебя же есть мой телефон, пора воспользоваться им!.. Ну, наконец, догадался… – отметила она про себя, не считая, однако, нужным поднимать трубку. – Пожалуй, пора открывать, – решила она, услыхав очередной трезвон дверного звонка.
Наскоро вытершись и накинув халат, она подбежала к дверям, на ходу завязывая пояс, мельком глянула в глазок и, со словами: «сейчас, сейчас!» – распахнула дверь.
– О, это вы! А который уже час?! – на ее лице отразилось изумление.
– Двадцать минут первого. – Он просиял, увидев ее, и смутился одновременно, устыдившись своего малодушия, виновного в его решении уйти от этих дверей.
– Господи, я все перепутала! – возбужденной скороговоркой щебетала она, не давая ему опомниться. – Я думала, что пригласила вас на два часа, и как раз залезла в ванну отмочить ноги, чтобы до вашего прихода привести их в порядок, да зачиталась! Уж больно книга интересная. Да Вы, скорее всего, ее читали: «Суламифь» Куприна. Какая жалость, я ничего не успела, вот поглядите, только чуть отмокли! – с детской непосредственностью она показывала пальчиком себе на ноги, готовая вот сейчас, прямо при нем, расплакаться от досады.
Он смущенно перевел взгляд с ее лица на босые ноги и замер, не в силах оторваться от этого совершенства со строго обусловленными линиями и формами.
«Боже! – думал он, – есть же на свете эдакая красота!» – Николай медленно опустился на колени и положил розы на ее стопы.
Майя Михайловна продолжала лепетать, будто вовсе и не замечая того, что он уже целует пальчики ее ног.
– Вечно я все позабуду! Николай Игоревич! Голубчик, где же вы? Нет, так не годиться! Я совсем не готова! Вы не представляете, как мне стыдно! Ну, ничего, мы вместе все быстро исправим, вы же мне поможете, не правда ли, дорогой Николай Игоревич?
– Да, конечно, не переживайте так! – польщенный и сконфуженный вконец такой бурной встречей, он с сожалением поднялся, оставив розы там, где положил.
– Цветы, цветы, давайте же их сюда! Я поняла ваше желание: устлать ими мой путь, и мне это очень приятно! Вы мне нравитесь вашей готовностью делать мне только приятное! Вы так галантны!
Николай собрал розы и протянул ей.
– Здравствуйте! – наконец проговорил он, не зная, куда спрятать глаза.
– Здравствуйте, здравствуйте, пойдемте же скорей, и не будем терять време-ни! – одной рукой она приняла цветы, а другой взяла его под руку и потянула за собой.
Николай пребывал в состоянии совершенного блаженства. Окрыленный радушием приема, он чувствовал себя молодым и здоровым, полным жизненных сил и возможностей. Совершенно сбитый с толку ее жизнерадостной болтовней, он просто не мог заметить никакого подвоха, или неискренности. Да ничего подобного и не было. Она была так же искренна, как и он. Она так же искренне упивалась происходящим, как и он. Просто у них были разные роли в этом сладостном жизненном спектакле. Каждый изо всех сил старался от общения получить свое, только ему предназначенное.
– Вот ваза, кипяченая вода на кухне, возле мойки в двухлитровой банке, принеси скорей! – она одарила его обворожительной улыбкой, – а я пока все приго-товлю.
Когда он вернулся с наполненной вазой, она уже сидела в глубоком кресле, а на полу перед ней лежал маникюрный набор. Он опустил цветы в вазу и в сильном волнении встал перед ней, не зная, что она от него хочет.
– Ну же, иди скорей сюда! – позвала она, – вот все, что нам надо для приве-дения в порядок моих ног, а я тем временем займусь лицом. Она открыла футляр с румянами и взяла в руку кисточку.
– Ну, что же ты, приступай скорее!
– У м-меня м-может не получиться… – произнес он заикаясь.
– Нет, нет, обязательно получится, не хуже, чем у меня, ведь тобой будет ру-ководить вдохновение! Ну, я же жду!
Николай опустился на колени и сел на пятки. «Что же тут делать? – недоуме-вал он, – ведь и так все прекрасно. «Лучшее – враг хорошему». Боже, какие пальчики!».
Он робко коснулся ее ноги. Она тут же, как по сигналу, приподняла ногу и поставила ему на бедро.
– Наверное, так будет удобней? – она лучисто улыбалась.
«Ну, что же ты, смотри, смотри внимательно, неужели ты сегодня не видишь, что видел тогда? – заклинала она. – Ну, посмотри, какие изящные пальчики, какие безупречные ногти!..» – она не сводила с него своих прекрасных глаз.
Но поощрять его было излишним. Он уже и сам, аккуратно водя алмазным напильником по кромке ногтей, вбирал глазами в себя всю «условную», как сказал Поэт, красоту этих чудных ног. Подправляя крошечной лопаткой лунки ногтей, Николай переводил взгляд с одного пальчика на другой, а затем, на всю стопу, изумляясь этому чуду. Не в силах более сдерживаться, он со всей нерастраченной страстью припал губами к этим стопам, поочередно осыпая их поцелуями.
– Ой, щекотно, щекотно же! – Майя Михайловна со смехом отнимала у него ноги, а он в бешеном экстазе ловил их и целовал. – Ты съешь весь лак с ногтей!
Продолжая смеяться, она изловчилась и, оттолкнув его обеими ногами сразу, подобрала их в кресло, усевшись в позу «лотоса».
– Я не могу больше так!.. Я вас люблю! – простонал он, снова подбираясь на коленях к креслу.
– Ну что ты, мой мальчик, можешь, можешь и даже очень можешь, и будешь! Вопреки мучительным и бессильным потугам противиться своей страсти ты будешь безропотно сносить все, что я захочу с тобой сотворить, еще как будешь: с готовностью, со слезами восторга, и будешь страдать и проклинать себя за малодушие, но вновь и вновь будешь покорно, как собачонка, ползти ко мне, чтобы реализовать свою потребность обожать прекрасную женщину, и будешь столько, сколько я захочу. Ты и представить себе не в состоянии, как сладостно пытать мужчину любовью, его же собственной страстью. И пытка эта тем для него невыносимей, чем сильнее его страсть! О, это неописуемое ощущение, не сравнимое ни с каким иным!.. В такие моменты я испытываю двойное блаженство, ведь одновременно чувствую и все, происходящее со мной, и все, что происходит в тебе, ведь ты на меня выплескиваешь море чувств.И ты никуда не денешься. Ты будешь наслаждаться сам, страдая от любви ко мне, и наслаждать меня, исполняя все, что мне придет в голову от тебя потребовать. А когда мне все это наскучит, я оттолкну тебя за ненадобностью. И ты умолять меня будешь, чтобы я позволила тебе хотя бы издали взглянуть на предмет твоего обожания – мои ноги. И я обязательно предоставлю тебе возможность исторгнуть из израненной души напрасные стенанья. Но ты не будешь знать, что попытки умолить меня – тщетны, ты будешь надеяться! О, я с наслаждением и терпеливо выслушаю твои униженные мольбы, взывающие к моему милосердию, потому как по женской своей слабости не смогу отказать себе в удовольствии пережить вместе с тобой твое отчаяние, твою боль и страдания, мною же доставленные, а оттого и безумно сладостные. Мы оба, всяк по-своему будем наслаждаться, но меру всего буду определять я сама. – Медленно, будто пила вкусное вино, с наслаждением цедила она каждое слово вкрадчивым елейным голосом, глядя смеющимися глазами на него в упор.
– Вот, посмотри еще раз и признайся, много ли ты видел в жизни таких ног? – она опустила с кресла одну ногу, и, перехватив его невольный порыв навстречу, пресекла его запрещающим мановением руки. – А что ты можешь противопоста-вить этому совершенству? – продолжала она, плавно поведя рукой в сторону опущенной ноги, – только обожание, и ты умирать будешь от тоски по мне и рыдать от счастья при одном лишь воспоминании, что однажды встретил меня, ласкал и был обласкан.
Обессиленный и совершенно обмякший, он повалился лицом вниз к подножию ее «трона», на котором она восседала, точно статуя Будды.
Неспешно она сошла с кресла, минуту постояла над ним с улыбкой, которой он не мог видеть, затем перешагнула через него, подошла к платяному шкафу и стала переодеваться прямо здесь, не обращая никакого внимания на присутствие в комнате мужчины, продолжающего все так же ничком лежать у кресла.
Одевшись, она подошла к Николаю и провела рукой по волосам.
– Вставай, а то простудишься, лечи тебя потом! – шутливым тоном миролюбиво и мягко произнесла Майя Михайловна, будто вовсе и не она только что истязала любовью несчастного обожателя. – Попьем кофе и пойдем, прогуляемся по парку: сегодня, кажется, хорошая погода. Пожалуй, там и пообедаем гденибудь. Я угощаю, ведь ты мой гость и мне очень нравишься. Ну же, успокойся! Я вовсе не хочу, да и не буду тебя обижать! Разве было тебе плохо со мной хоть минуту? Впрочем, если тебе не нравится, не смею удерживать! – на протяжении этого короткого монолога она трижды меняла интонации, и переходы: от мягко-просительного к удивленно-вопрошающему, а затем к отчужденно-холодному, – были едва уловимы.
Пристыженный, он встрепенулся и поднялся: «Неужели я дал повод считать, что о чем-то жалею?» – думал он, стоя в растерянности и не решаясь произнести какие-то слова.
– Николенька, расслабься, люби меня, ласкай меня и ни о чем не думай, я лучше знаю, что нам с тобой надо. Делай, что прописал тебе лечащий врач, и все будет хорошо! – она обворожительно улыбнулась.
Наскоро выпив кофе с бутербродами и клубничным джемом, они выкурили по сигарете и стали собираться на прогулку. Николай с удовольствием смотрел, как Майя Михайловна поправляла прическу, стоя у зеркала. Что-то уютно-домашнее было в ее движениях. Точно так же он часто ожидал Нину, когда они собирались куда-нибудь идти.
***
Удивительно приятно было гулять по Сокольникам с такой красивой женщиной. Прохожие: и мужчины, и женщины – каждый по своим причинам – обращали на нее внимание, чего она, казалось, не замечала, обласкивая слух Николая беззаботным щебетанием. Он не в состоянии был вникать в смысл ее скороговорки и часто на заданные вопросы отвечал невпопад, чем приводил Майю Михайловну в совершенный восторг.
«Как с ней теперь легко! – думал Николай, – как будто мы знакомы с детства. Но почему я сейчас с ней, ведь у меня есть жена? С Ниной тоже было легко, и когда-то здесь же мы гуляли, а я рвал ей розы с такой же вот клумбы, и когда-то я ее любил, иначе ни за что бы не женился. А что осталось от этой любви через пятнадцать лет? Почему я уже не так люблю, как прежде? Совместный долголетний быт, привычка, возраст? – Все эти расхожие объяснения не выдерживают критики. Разве «Мадонной Литой» не восторгаются уже столетия люди всех возрастов? Разве меня перестает волновать Юдифь Джорджоне вот уже лет двадцать пять? Разве к настоящей красоте можно привыкнуть и охладеть, даже если она застыла на тысячелетия? А ведь все это писали люди, хоть и гениальные, но люди: разве могут они сравниться своими творениями с великой Природой, чьи произведения даже разумом постичь невозможно, не то, что повторить, или превзойти? Вот рядом семенит удивительной красоты женщина, и каждую секунду другая, новая. Такая женщина подобна трепетному пламени костра, на который можно с неослабным интересом взирать часами. Как же она может надоесть? Нет, только от женщины зависит восприятие ее мужчиной. Конечно, быть такой женщиной – это талант, огромный труд, но и награда ему – неизбывная любовь – стоит такого труда».
Николай не заметил, как они оказались у ее дома. Он машинально глянул на часы: было уже начало шестого.
– Вот и день прошел, мне уже скоро возвращаться в больницу, – сказал он просто так.
– Но ведь это не самый неудачный день в твоей жизни, согласись? – Майя Михайловна лукаво чему-то улыбалась.
– Нет, не самый, – вяло согласился он, представляя себе свою больничную койку возле голой стены, окрашенной грязно-салатовой краской.
– Мне не нравится ваше настроение, больной! Ни о чем плохом не думайте, и тогда останется только хорошее! – она заводила его игривым тоном. – Вы знаете, что для успешного лечения вам необходимо постельное тепло и положительные эмоции? И, готова спорить, догадываетесь, что ваш лечащий врач в состоянии все это обеспечить!
– Да, знаю, догадываюсь, – сказал Николай очень серьезно.
Они вошли в квартиру.
Проходи, проходи. Уверена, ты еще и не видел, как я живу, ты успел, кажет-ся, разглядеть только палас! – говорила она с плутовской улыбкой, беря его за руку и увлекая за собой. Но ты сам виноват, нужно как-то научиться сдерживать такой темперамент, а не то ведь сгоришь до срока: у тебя ведь и язвенная болезнь от сильных страстей. Но с другой стороны, именно это лично мне в тебе очень нравится! – договорила она с чувством и пошла на кухню.
Действительно, Николай сейчас будто впервые входил в комнату, а ведь он пробыл в ней не менее часа.
– Можно, я начну осмотр с туалета? – Николай начинал обретать некоторую уверенность, польщенный ее словами о темпераменте и ободренный тоном, которым говорились эти слова.
Из туалета он вышел уже совсем обретшим себя человеком. Теперь он мог внимательно осмотреть комнату. В ней не было ничего особенного. Какая-то иностранная стенка с темной матовой поверхностью у правой от входа стены, журнальный столик около дивана, стоящего впритык к левой стене, почти сплошь увешанной книжными полками. Два кресла по бокам от входа в комнату. Возле одного из них как раз и происходили утренние события.
Единственное, на что можно было обратить внимание, не считая идеального порядка во всем и чистоты, это репродукция врубелевского «Демона», висящая над диваном.
Николай остановился перед «Демоном», пытаясь понять причины, по которым хозяйка квартиры предпочла именно эту репродукцию. Так ничего и не поняв, он отошел от репродукции. Была еще одна комната, ее спальня, куда он войти не посмел, справедливо полагая, что для этого необходимо специальное разрешение. В глубине души он очень рассчитывал на такое приглашение.
В нише стенки стоял телевизор «Рубин», в другой нише – магнитофон. Николай нажал на пуск, и совершенно неожиданно для него зазвучал вальс Шопена № 10 си бемоль минор. В комнату из кухни вошла Майя Михайловна.
– Кажется, ты вполне освоился? Совсем недурно для первого раза! Шопена слушаешь… – произнесла она. – Сейчас мы будем ужинать, ты не возражаешь?
Нет, он совсем не возражал против ужина. Ему, конечно же, было приятней ужинать в ее обществе, нежели в обществе товарищей по палате, хотя он ничего не имел и против них.
– Майя Михайловна…
– Зови меня «Майя»: мне нравится мое имя, не обремененное никаким балластом, и еще мне нравится, когда мне говорят «Вы». А тебе я буду говорить «ты». Согласись, в этом есть для нас обоих некоторое удовольствие, ведь ты – мой пациент, а пациенты – мои дети: наивные и доверчивые, – она улыбнулась своей удивительной улыбкой, исключающей всякие возражения, – ты ведь думаешь так же, мой хороший?
– Да, моя повелительница, я с рождения думал точно так же!
– Ну вот, совсем другое дело, таким ты мне нравишься более всего. Понимаешь, тебе не хватает как раз вот этой дурашливости, ты весь какой-то… стиснутый, что ли, будто у тебя мозоли на обеих ногах, и ты не знаешь, какой ногой ступить. Ты будто ежесекундно решаешь проблему: любить, или не любить, я же вижу! Все думаешь, думаешь… Так же невозможно жить. У тебя, похоже, и язва от нравственных терзаний. Ах да, это я уже говорила. Ты должен расслабиться, ведь нельзя быть постоянно таким напружиненным! Ты же хочешь мне нравиться, правда?
– Обалденно хочу!
– Тогда не думай ни о чем и ни о ком, кроме меня. Пойдем накрывать на стол!.. Неси это в комнату, на журнальный стол.
– Разве мне это можно? – он с сомнением осматривал бутылку водки.
– Если я даю, значит можно. По новейшим взглядам диета не играет решаю-щей роли в динамике выздоровления.
– Это прекрасно, но вдруг я выпью лишнего и заявлюсь в таком виде в больницу?
– Во-первых, ты не выпьешь лишнего: я за этим послежу, а во-вторых, тебе не нужно сегодня возвращаться в больницу. Пока ты наслаждался Шопеном, я позвонила на работу и предупредила дежурную сестру, что ты у меня отпросился домой на воскресенье, и заявление твое у меня есть, а я об этом только теперь вспомнила. Так что ты сейчас дома, и обязан вести себя так, как если бы перед тобой была твоя горячо любимая жена.
«Перед этой женщиной нет никаких трудностей! – с внутренним ликованием подумал Николай. – Совершенно сногсшибательная женщина! Выходит, на сегодня я свободен, совсем, совсем свободен! – Это открытие потрясло его.Первый раз за много лет он абсолютно свободен и никому неподотчетен! Он улыбнулся пришедшему на ум анекдоту про Ленина. Ему захотелось запеть прямо сейчас и вот здесь. Он снимал с себя всякую ответственность, вернее, она уже снята сама собой без его вмешательства. Как же возможно противиться этому счастливому случаю, освобождающему от всего-всего?!
– Чему ты так загадочно улыбаешься? – она тоже улыбнулась.
– Анекдот вспомнил.
– Ой, расскажи скорей, я страшно люблю анекдоты, надеюсь, он цензурный?
– Разумеется, я нецензурные забываю тут же, после прослушивания. Значит, так. Идет Владимир Ильич по улице и эдак лукаво, как только он один и умеет, улыбается, потирая руки: «Как пг’екг’асно все складывается: Наденьке сказал, что поехал к Аг’манд, Агнессе – что буду у Надюши, а сам в библиотеку и – г’аботать, г’аботать, г’аботать!»
– Ты на что намекаешь? Ни в какую библиотеку я тебя не отпущу. Я тебя на сегодня украла и укрыла. Сегодня ты только мой! И я могу делать с тобой, что пожелаю. Кто ты такой? Где твой паспорт? Ты самовольщик! Слушайся меня и всячески ублажай, иначе я сдам тебя милиции и заявлю, что ты вломился в мою квартиру, и, вместо того, чтобы спать с собственной женой, преследуешь и домогаешься меня. Тебя переведут из больничной палаты в тюремную. Будешь там лечиться и перевоспитываться. Ты будешь меня слушаться?
– Уже слушаюсь и повинуюсь!
Она зажгла свечи и выключила свет. Они сидели на диване за журнальным столиком при свечах и ели какой-то сказочно-вкусный баночный паштет, и какую-то изумительную, кажется, «Молочную», или «Останкинскую» колбасу, закусыва-ли все эти вкусности маринованными помидорами, а запивали водкой «Пшеничной». Они слушали Моцарта, и говорили… говорили… И не было никогда в жизни Николая ничего подобного этой волшебной сказке…
– Ты расслабился? – тихо произнесла она, когда все было съедено и выпито.
– Пожалуй, – ответил он легкомысленно.
– Вот и прекрасно!
После всего этого великолепия, когда уже мысли Николая, не им и никем другим не управляемые, текли сами собой, в разные стороны, она мягко взяла его за руку и повела в ванную. Настроение его можно было охарактеризовать как ликующе-восторженное. Его восхищало здесь буквально все, что окружало.
– Раздевайся и постой под душем. Я посмотрю на тебя, – сказала она совсем просто.
И он так же просто, как она это сказала, разделся, совершенно не смущаясь, и встал под теплые струи воды, окончательно смывающие все его сомнения и робко вылезающие откуда-то хиленькие угрызения совести. Все было омыто и смыто. Николай выходил из ванны чистым, слегка хмельным и разудалым, а рядом стояла прекрасная женщина и открыто любовалась его совершенно молодым и упругим телом.
– Теперь я… – донеслось божественно-прекрасной музыкой до его ушей, когда он отдавал ей уже ненужное полотенце. – Но ты должен опуститься на колени и смотреть на меня во все глаза и с обожанием, я сейчас для тебя буду исполнять стриптиз, но, конечно же, любительский, так что за качество не ручаюсь.
Боясь, что эта нереальная реальность вдруг сейчас исчезнет, он с поспешностью рухнул на колени и впился своим восторженным взглядом в эту потрясаю-щую воображение женщину, предлагающую ему насладиться волшебным зрелищем.
Совершенно неожиданно для Николая, она начала чуть слышно напевать: «Не уезжай, ты мой голубчик, мне будет грустно без тебя»:
Под этот своеобразный аккомпанемент привычными движениями она освободилась от платья, в котором еще совсем недавно гуляла по парку, в задумчивости повернулась по сторонам, ища глазами место, куда можно было бы его бросить и, словно не найдя его, бросила ему на плечо.
:»Дай на прощанье обещанье, что не забудешь ты меня»:
Плавными движениями рук отстегнула и сняла бюстгальтер, постояла, как бы в нерешительности, и определила его туда же. Затем, с загадочной улыбкой глядя на совершенно обалдевшего Николая, медленно стала снимать колготки.
Николай был уже в полуобморочном состоянии, когда ему на плечи легли ее только что снятые колготки, а затем на голову – ее белые трусики.
…»Скажи-и ты мне, скажи-и ты мне, что любишь меня, что любишь меня!» – заклинал цыганский романс, наполнявший маленькую ванную.
Не смея шевельнуться, он стоял в оцепенении, ощущая щекой прикосновение не успевшей остыть ткани и с жадностью вдыхал смешанные запахи духов и ее тела, исходящие от белья, все то время, пока она плескалась под ласковым душем и напевала эти странные слова, не сводя с него искристых глаз.
– Я люблю вас, Майя! Кабы вы только знали, как я вас люблю! Я никогда так прежде не любил! Неужели вы не понимаете? – совершенно искренне и страстно прошептал он.
– Я это знаю и все понимаю! – оборвала она пение, – так и должно быть, ина-че ты не стоял бы сейчас вот так просто здесь, и я бы тебе не пела! – говорила она тихо и печально, с каким-то чувственным придыханием, и с задумчивой нежностью глядела на него, – знаешь, это удивительно, но тебе каким-то образом удалось до седин сохранить трогательную детскость и искренность души. Поверь мне, я видела много разных людей, и только очень немногим я могла бы сказать то же самое. Похоже, ты всегда веришь в то, о чем говоришь, а говоришь только то, что чувствуешь. Тебе не придется жалеть о том, что пришел ко мне: я это обещаю. Только ты ничего не бойся и не стесняйся: любовь оправдывает все, до самой последней капельки – иначе это не любовь! Ты должен полностью положиться на меня и верить мне. Я просто не могу обмануть твоих ожиданий. А теперь отнеси эту одежду в комнату и брось там, на диване, я утром разберусь. Подожди меня в спальне, я сейчас к тебе приплыву на волнах твоей любви.
В состоянии сильнейшего транса он отнес одежду на указанное место, постоял минуту, в абсолютном бессмыслии глядя на «Демона» и совершенно не понимая тайного смысла его молчаливого здесь висения, а затем, чуть покачиваясь, направился в ее спальню.
Он увидел только широченную кровать, у которой тут же и рухнул на колени, уронив голову на ничем не покрытый паркет. Он не ощущал сейчас ни себя, ни времени, в котором находится.
Она вошла бесшумно, подошла вплотную к нему и остановилась, с противоречивыми чувствами и мыслями глядя на его согбенную спину.
«Вот он, – думала она, смущенная застольной беседой, – измотанный страст-ным желанием раб, готовый исполнить все, что бы я ни пожелала. Он покорно ждет меня, изнемогая от нетерпения вобрать меня всю до капли. Он сейчас с восторгом и по-собачьи предано будет заглядывать мне в глаза, дрожащими губами будет ловить мои руки, жадно вдыхать все запахи, какие бы я сейчас ни источала… Господи, как легко поддаться искушению и проверить это! Какого удовольствия ты меня лишаешь, мой мальчик, сам того не ведая! Какой же ты еще ребенок! Стоп! – Она разом отмела от себя наплыв совершенно неуместной и никому не нужной сентиментальности. – Ведь ты, целуя меня, будешь мысленно каяться перед женой и бичевать себя за минутную слабость, а потом будешь проклинать меня и обвинять во всех грехах, оправдывая свою похотливость! Но почему, почему в таком случае я должна щадить твое чистоплюйство?! Почему я должна бежать от соблазна и лишать себя отвоеванных и принадлежащих мне по праву победителя ласк и сексуальных удовольствий? За тебя не скажу, а у меня только одна жизнь, и я ее живу, как хочу. Кому нужна, скажи на милость, твоя девственность? Разве ты пришел ко мне Шопена слушать? Кого, кроме твоей обветшалой жены, должно интересовать твое допотопное целомудрие?! Вот и проваливай к своей узаконенной! Вместе станете восторгаться твоей стойкостью против змеиискусительницы. Ах, Ваше величество, Вас мучит «двусмысленность Вашего поведения?», «Под сомнением Ваша честь и совесть?». Ах, как исстрадалась столь высоко организованная и легко ранимая душа Вашего Высокопреосвященства! Какая она вся из себя высокодуховная! Ну, разумеется, муж жены Цезаря… и тому подобное, и тому подобное!.. Во всем виновата эта развратница, обманом и колдовством затащившая Вас под свое мерзкое одеяло! Только жена имеет на Вас все права, а нам остается «сидеть там, за печкою». Ах, какая досада! Ах, какая жалость! Да мы этого не перенесем! Да мы тотчас же умрем от отчаяния! Да на кого вы нас покидаете?! Ах, какой Вы весь из себя чистенький и святенький, ну просто плеваться хочется! Не извольте беспокоиться, Ваша Высокосветлость, ничто не может вас замарать: разве мыслимо доплюнуть нам до Солнца?
Ну, уж нет! Ты сейчас валяешься на полу, возле моей постели, не смея даже смять ее, так изволь делать, что я тебе велю! – она вновь обрела уверенность и жестокость, которой чуть было не лишилась, растроганная «Реквиемом» Моцарта, только что звучащим при свечах, и доверительными разговорами с этим мужчиной. Усилием воли она удержала пришедшее вдруг бешеное желание изо всех сил пнуть ногой эту бесформенную массу, распластавшуюся у ее кровати.
Нет, эдак не годиться, – успокоила она сама себя, – зачем же так хулигански грубо? Я уже сегодня буду топтать тебя, но иначе, так, чтобы ты сам этого жаждал и умолял меня об этом. Не-ет, конечно же, как и обещала, я не сделаю ничего, что было бы тебе неприятным, мой верный раб. Ты получишь только то, ради чего полз ко мне!» – лицемерно пообещала она себе, сладострастно улыбаясь и живо пред-ставляя, с каким неописуемым восторгом примет он, совершенно убаюканный ее словами о любви и доверии, все ему уготованное его повелительницей. И уже через полчаса, распаленный до предела пределов давно не удовлетворенным желанием, перенасыщенный любовью к божественно прекрасной и ужасной женщине-деспоту, возлежащей на высоких белоснежных подушках в красном пеньюаре и благоухающей дорогими французскими духами, будет метаться он по постели и, изнемогая от неземной страсти, будет бесконечно долго и униженно умолять ее. А она бесконечно долго и величественно будет отпихивать его ногами и руками и с методичностью метронома, с наслаждением и до устали хлестать его по щекам по-очередно: то правой, то левой рукой, и в такой же очередности подносить к его губам эти руки, с плотоядной улыбкой повторяя: «Целуй… еще целуй… теперь эту! Не так, ты целуешь небрежно, а нужно медленно, с чувством! Не стесняйся… лизни руку… вот так… и ножки: возьми пальчики в рот, пососи их: я научу тебя этому… ласкай меня…» А затем, когда почувствует, что он начинает иссякать, как будто вняв, наконец, его страстным мольбам и, точно, сжалившись над ним, она милостиво позволит ему делать все-все-все там, в ее глубинах, в ее таинственных недрах… языком. И потом, минутами позже, удовлетворив таким образом ее желание и оставаясь неудовлетворенным, стоя, как она ему велит, в ванне перед нею на коленях и обхватив ее стройные ноги, жадными устами в безумном экстазе будет ловить он соленые ароматные струи янтарного ручейка, с резвым журчанием вытекающего из потаенного родничка, обрамленного темными вьющимися кудряшками. А она, словно Гея, щедро разливающая из рога изобилия все блага мира, величавая и недосягаемая, широко расставив ноги и грациозно водя бедрами из стороны в сторону, с торжествующей улыбкой и сияющими от счастья глазами будет направлять бесконечную струю ему на лицо, грудь и плечи. И в таком же демоническом экстазе шептать заклинание: «Пей меня, пей всю до капли, я бесконечна… и я вся твоя… напейся и насладись мною… Ты на вершине блаженства! Ты упиваешься мною, только мною. Я отдаюсь тебе вся до последней капли! Пей же меня всю… всю! Только это и есть обладание мной! Видишь, только я могу дать тебе настоящее наслаждение и счастье, блаженство блаженств?! Только я, твоя повелительница и госпожа, отныне и навсегда, и никто другой! Твоя жизнь принадлежит мне! Я – твоя царица Астис!».
А потом, отравленный приторным ядом, до тла сожженный ее изощренными пытками, повалится он без чувств и будет долго-долго лежать у ее ног, не в силах вернуться в себя из трансцендентного небытия, где только что пребывал.
И это будет вот сейчас, и начнется сию же минуту, потому, что так хочет она…
– Ну, вот и я! Ты меня с нетерпением ждешь? – кокетливо молвила она, обнаруживая, наконец, свое присутствие.