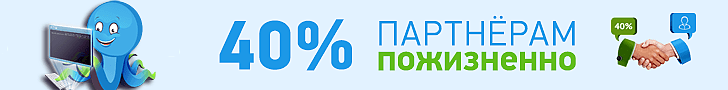В деревнях-то наших по-простому жили, как пращуры завещали. В праздники яровухины и женой своей соседа угостить не грех, если добрый человек, да и не одного. Некоторые молодые бабы, особо на передок слабость имевшие, упрашивали своих муженьков разрешения, да и по трое охотников разом до своего тела допускали. Муж старый в избе спит, а жену в баньке деревенские кобели парят. А чего, дело хорошее, коль уж сласти так хочется.
Жил в одной такой деревушке пастушок и звали его Василек. Рос без отца и матери, без сестер и братьев, без теток и дядек, короче был наш Василек круглым сиротой. Целыми днями пас он деревенское стадо, а с такого промысла прибыток малый, хватало лишь на кусок хлеба с сыром, да на лапти раз в три года – вот и весь капитал.
И невесты у Василька потому не было. Какой же родитель свою дочку за голытьбу замуж отдаст. Вот и занимался пастух рукоблудием, да так, что аж пар от него валил. А елдак у Василька был знатный, в шесть вершков не меньше, и толщиной не обижен – еле в ладони умещался. Пригонит Василек стадо на луг, сам под куст ляжет, портки спустит и давай шуровать на сухую, девок деревенских воображая, а особенно красавицу Анюту – деревенского старосты дочку. Ей в ту пору уже шестнадцатый годок пошел, спелые груди соком налились, коса белокурая ниже задка, а фигурка такая, что и под сарафаном эдакую красоту не спрятать. Очень она пастушку глянулась, не одиножды он семенем своим землю орошал, представляя Аленку голую в баньке.
Вот и в этот день, размечтался наш архаровец о девичьих прелестях, член могучий раззадорил, да и обкончал густо траву вокруг себя, да еще и с криком натужным. С трудов таких задремал пиздострадалец, разомлевший в теньке полуденном. А проснулся неожиданно, будто толкнул кто. Что такое? В стаде волнение какое-то слышится. Поднялся пастух, портки поддернул и пошел потихоньку туда, где овечки блеют. Подошел он к стаду, глядь, а к одной из овечек пристроился старичок сухонький, сам заморыш заморышем, а хер у него, что добрая оглобля, с локоть. Отоваривает охальник овечку да похрюкивает от удовольствия. Василек не растерялся, тихо сзади подкрался и вставил сморчку большой палец в жопу – как рыбу на крючок насадил. Старичок ойкнул, овечку отпихнул, а сам с места двинуться не может. Култак торчит, будто флюгер по ветру – срамота, хоть и смешно конечно.
— Отпусти ты меня, молодец – взмолился старичок писклявым голоском – я тебе службу сослужу.
— Ты мне уже сослужил, паскудник, вон овцу спортил, аж на полусогнутых бредет – гневится Василек.
— Бес попутал, не буду больше, – мямлит старичок, а сам стоит, как солдат под знаменем, вытянулся и пастуший палец сфинктером жмет – а от службы моей не отказывайся, дорогого стоит. Хошь девку какую завалить, хошь саму царицу – подсоблю.
— Что ж ты, символ фаллический, под себя-то их не пристроил, а животину мучаешь?
— Что ж, твоя правда, к природной естественности слабость имею, а ты, паренек, не теряйся, до любой дырки тебя доведу.
Задумался Василек, а вдруг и правда поможет. Годков ему уж восемнадцать, а живой пизды отродясь не пробовал. Только боязно вдруг пастуху стало, не захотел он в деревне своей куражиться, мало ли что, жить же здесь еще.
— Знаешь что – решился наш герой – давай-ка для начала с французской королевой попробуем, но смотри у меня, обманешь или пойдет что не так, я тебе самому по самые помидоры вдую.
— Не изволь сомневаться, сокол, — засуетился старичок – сделаем все в лучшем виде, только ты уж пальчик-то вынь, не хочу привыкать к такому греху на старости лет.
Василек палец вынул, об рубаху обтер, стоит и чуда ждет. Старичок же зад почесал, разворачивается к пастушку и молвит: «Ну, а теперь, добрый молодец, целуй мой хер в самую маковку, иначе волшебства не получится». Хотел было Василек ему по кумполу двинуть, да не решился, вдруг и впрямь таким образом лесовики колдуют. Мало ли на свете обрядов странных да диких. Вон, говорят, что в соседней деревне бабка-ведунья живет, дак она живую мочу всех больных пить заставляет и ничего, пьют, а потом и выздоравливают. Нагнулся паренек к торчащему стариковскому чуду да и чмокнул его в головку. А головка-то что твой кулак.
Неожиданно земля закрутилась под ногами, поменялась местами с небом и очнулся наш герой на паркетном полу в опочивальне французской королевы. Той как раз между ног подмывали. Одна служанка ночную сорочку из тончайшего шелка, задравши, держит обеими руками. Вторая, из мавров, ручонкой теплую водичку с одеколоном из серебряного таза зачерпывает, да трет нежно промежность королевскую.
— А, это ты, мон шер, – проворковала королева – приляг пока на ложе, супруг мой сиятельный сегодня к фаворитке отправился, так что мы с тобой всласть налямуримся. Да портки-то скинь, несмышленыш, что ж я твой меч по прорехам искать буду.
Разделся Василек быстренько да и прыгнул голяком на шелка королевского ложа. Служанки же, похихикивая, туалет госпожи своей закончили, книксен обе сделали и ну молить королеву, чтобы оставила их в спальне, да к блуду допустила. Очень уж чертовкам захотелось елдака пастушьего отведать. Смилостивилась королева, оставила барышень и началась тут такая оргия, о которой Василек и мечтать не мог. Уж и сверху он их и раком, и боком, и плашмя. Королева-то больше верхом, оказывается, любила, ездовая вишь сучонка. Повалит паренька на спину, заскочит сверху на член, ручкой поправит, выдохнет томно и ну скакать – верст на двадцать наскачет, если б на настоящей лошади. И стонет дико, да громко так, аж стены ходуном ходят. Служанки тоже не отстают, как только госпожа устанет, да откинется на простыни, тут же по очереди дырочки свои Васильку подставляют. На, мол, добрый молодец, угощайся сахарком девичьим. А дырочки у них розовенькие да гладенькие, по последней парижской моде обритые, да напудренные. Ну уж Василек их и утюжил, во все свои моченьки, только вот кончить никак не получалось. Тут же нашему русскому лапотнику и еще одну новинку продемонстрировали – французская любовь называется. Все три мадамы устами сахарными к его наследству приложились, у Василька аж волосы дыбом встали, не говоря уже о члене, будто каменном. Отымел он их троих, как говорится, во все щелочки – в каждую входил и через рот, и через вагину, и попки отполировал. А кончить смог только между грудями королевы-прелестницы, благо они у нее могучие, что арбузы астраханские. Залил он прекрасное личико горячим своим семенем, а королева напоследок еще в ротик труженика взяла, пососала головку легонько. Как ошпарили Василька изнутри, до того ему сладостно стало. И вскричал он от переизбытка чувств: «Хорошо-то как, бляха-муха, вот спасибо, старик, сослужил». И в тот же миг оказался на поляне, рядом со старичком и своим стадом.
— Ух, ты – вскричал Василек и только тут понял, что голышом из Версаля вернулся, одежонка в дамской спальне осталась.
Прикрыл срам рукой и молвит: «Ты б мне одежу какую соорудил».
— Тебе зачем, сокол ясный – хмыкнул старичок – целуй кукан и в путь отправляйся.
Василек последовал тому совету, головку чмокнул и снова волшебным образом перенесся с поляны теперь уже в бордель амстердамский. Ох и миловался он там с женами моряков голландских, которые шли в бардак, как мужья их в дальние плаванья уходили. Потом побывал в гареме шаха персидского и ублажил 120 жен и наложниц. Далее с гишпанскими блудницами срамные хороводы водил, нанизывая их на свой инструмент по очереди. После племени африканского, а особенно японских гейш, стал наконец утомляться наш герой.
— Стой-ка, дедушка – молвил Василек, кончив жидко уже в очередной раз – снаряди меня теперь к Анютке, нашего старосты дочке.
— Будь по твоему – скрипит старичок – целуй хер мне, пока совсем не упал.
А елда дедушкина и вправду совсем уж поникла. Приподнял ее Василек, приложился смачно и оказался в опочивальне Анютиной. Лежала девонька на постельке, смотрела на пастушка нежно, а из одежды на ней только бусы янтарные. Волосы чудные по подушке разбросаны, титечьки юные торчком торчат, лоно девичье сквозь волосики курчавые, светлые, призывно алеет – Анютка и ножки свои уж раскинула, ждет. Василек зверем накидываться не стал, хоть вскипела кровь юношеская, да и член вскочил будто и не было у него до этого кругосветного блуда неистового. Упал Василек на простынки, между девичьих ножек прекрасных, да и приник он к девственному лону ртом жадно, как обучила его недавно одна принцесса немецкая. Стал вылизывать языком горячую щелочку, лизал бешено, клитор теша. Стонала Анютка, груди свои мяла страстно, маму звала в беспамятстве и даже заплакала, так ей было хорошо. Это ж не котик был, которого она обычно приманивала, сметаной свою киску обильно смазав. Это мужчина был, первый в ее жизни. Но Василек на уговоры и мольбы ее не поддался, не стал невинности лишать, видно не оставлял надежды жениться на ней, да так, чтобы девственницу в жены взять. Языком обласкал, в соке женском рожу намочил да и вышел восвояси.
Поженились они в скором времени. Думаете, Анюта батюшку своего с бедностью и незавидным положением Василька помирила? Вот уж нет. Когда Василек голышом из девичьей выходил, то матушку Анютину встретил. Бабенку-то эту пастушок в сенцах и прижал. Отодрал знатно, рачком, да и знаниями своими относительно французской любви поделился. В общем, будущая теща, чтобы такого ебаря постоянно рядом иметь, мужа и уломала. Всего за месяц. Свадьба знатная была, а когда первой ночью Василек Анюту из девицы в бабу переводил, та орала так, что вся деревня притихла – мужики и бабы завидовали такой страсти.
Вот так пастух стал зятем старосты. Половина деревенского стада ему принадлежит. А старичку-лесовику он по первому требованию лучшую овцу дает. Вот такая вот дружба между ними установилась.